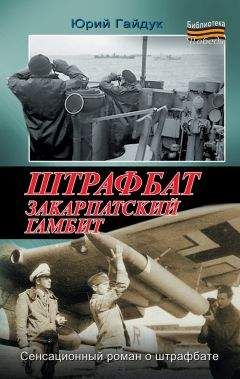– Считай, что сегодня нарисовались.
– Надолго?
– А это уж как расклад пойдет, – буркнул Андрей и, видимо, посчитав утренник вопросов и ответов законченным, спросил: – У тебя найдется местечко, где можно будет до вечера перекантоваться?
– О чем базар?! – встрепенулся Пуля. – У меня на хазе [56] и перекантуетесь, а заодно и встречу вспрыснем.
– Что, хавира? [57] – насторожился Бокша, которому не очень-то светило появляться на воровской малине.
– Обижаешь, Боцман, – ощерился фиксой Пуля. – Я за эту хазу бумагой [58] плачу и кайфую в ней, как король на именинах. А вечером… вечерком я тебя к Мадьяру отведу, у него и догуляем.
* * *
Если сказать, что Мадьяр обрадовался «воскрешению» Боцмана, значит не сказать ничего. Он крутил его и так и этак, восхищенно прицокивая языком, потом повел в дом знакомить с Вандой – пышнотелой сорокалетней блондинкой-красавицей, сумевшей сохраниться при столь бурной жизни, когда год идет за три, даже в свои сорок лет. Судя по всему, она была наслышана о Боцмане раньше, и когда Мадьяр приказал ей накрывать на стол, Ванда выставила всё, что было в ее доме.
И свежие куриные яйца, чтобы водкой горло не драло, и аппетитное белое, как новогодний снег, сало, и копчености, и колбасы, и бочковые огурчики, и даже соленый арбуз с мочеными яблоками. И это не считая огромной плошки с маринованными грибками и исходящей сладостным паром картошки, заправленной шипящими шкварками.
Немного подзаправившиеся у Пули, Шайтан и Писка сразу же навалились на горячую картошку с грибками, а Боцман вел неторопливый разговор с Мадьяром, время от времени поднимая тост за хозяйку дома, что, видимо, ей очень нравилось. Разговор шел под водочку, осторожно прощупывающий с двух сторон, но когда хмелеющий Мадьяр уразумел наконец-то, что Боцман и эти двое, что были с ним, те самые ужгородские штрафники, о которых уже судачит вся округа, он вроде бы даже как протрезвел и уже совершенно иными глазами уставился на гостя.
– Что, припотел малость? – усмехнулся Бокша.
Мадьяр отрицательно качнул головой:
– Обижаешь, Боцман, обижаешь. Ты же знаешь, я не из тех, кто начинает потеть при первом крике «Атас!».
– А чего ж буровишь зенками, как лагерный кум на допросе?
– Оттого и буровлю, что только сейчас признал в тебе прежнего Боцмана.
– А чего ж раньше-то, признать побздёхивал?
– Да вроде бы как того, – признался Мадьяр. И тут же, словно оправдывался перед старым корешом: – Да ты и сам врубиться должен. О человеке базар по зонам шел, будто он в штрафбат добровольно напросился, а он вдруг с липовой ксивой в твоем городе появляется.
– Ну, ксива-то, положим, не липовая, а самая настоящая, – хмыкнул Андрей, – ее Писка на ужгородском майдане [59] у какого-то лоха срезал, а вот насчет остального, пожалуй, ты прав. И штрафная рота была, и фронт, и ранение, но когда мы всемером проснулись в мусорном сейфе ужгородской казенки и нас всех семерых потащили на допрос…
– Что, вы действительно замочили кого-то? – перебил Бокшу Мадьяр.
– Похоже, что так. По крайней мере, всем нам грозил трибунал. И когда мы всё это осознали…
– Короче, – закончил за Боцмана Шайтан, – иного выхода не оставалось. Да и сами посудите, – обратился он к хозяйке дома, – кому охота в самом конце войны под трибунал идти, чтобы потом тебе пятнашку лагерей припаяли, а то и вовсе в распыл бы пустили.
Ванда смотрела на гостей широко раскрытыми глазами, и в них читалось то восхищение, то неподдельный испуг оттого, что сейчас ее гостей ищет всё НКВД в округе, а то и вовсе черт знает что.
Незаметно от хозяйки Боцман показал на нее глазами, и Мадьяр согласно кивнул, попросив ее сделать кофе покрепче и чифирок погуще. Когда она вышла в кухню, повернулся лицом к Боцману:
– Ну а теперь колись, но чтобы всё по порядку.
Боцман переглянулся со своими подельниками, как бы спрашивая их разрешения, – Шайтан и Писка утвердительно кивнули головами…
Рассказав вкратце о драке в пивной с ужгородскими мужиками, которые схватились было за ножи, но этими же ножами были порезаны, Андрей матерно выругался и без особого энтузиазма в голосе добавил:
– Оно бы, может, драка эта и сошла с рук, если бы не усиленный патруль, с которым тоже поначалу разбираться стали – кому-то даже голову скамейкой проломили, да следак-паскуда, сразу же нам объявивший, что мы преступники хужее фашистов, так как замарали на всю освобожденную Украину честь и форму советской армии, тогда как все хохлы с великой надеждой смотрят на своих освободителей, и не будет нам никакой скидки и никакой пощады за наше преступление.
– Короче, трибунал! – подытожил Шайтан, разливая по стаканам очередную бутылку водки.
Покосившись на Шайтана и на кисть его руки, синюшную от лагерных наколок и более похожую на лопату-стахановку, Мадьяр уважительно откашлялся.
– И вы, значит?..
– А что нам еще оставалось делать? – подал голос Писка. – Идти под трибунал и ни за что ни про что залететь на червонец? Нет уж, херушки вашей Дунюшке! И я, и вся остальная братва не для того в штрафбат подались, чтобы после войны еще один срок мотать!
Разинув рот и забыв про стакан водки, что он держал в руке, Пуля с уважением и в то же время с сочувствием смотрел на Боцмана, который смог вытащить братву из столь незавидного положения. И в этом он видел прежнего Боцмана из «Сиблага», против которого боялись идти даже самые заявленные.
Высказав своё наболевшее, Писка замолчал, и над столом зависла скорбная тишина. Каждый из этих людей на своей собственной шкуре познал, что такое срок в сталинских лагерях, однако те сроки были вроде бы как за дело – не укради, да судим не будешь, – но чтобы загреметь на зону, причем на целый червонец, из-за безобидной месиловки в засранной ужгородской рыгаловке… Это уже полный беспредел. И видать, совсем уж вразнос пошел товарищ Лаврентий Павлович Берия, если из-за дармовой премии [60] готов бросать фронтовиков-разведчиков в кресты, крытки да в клоповник. Видать, там, наверху, в Москве и в самом Кремле полные бельмондо, ибанушки и дупеля окопались, коли из-за такой мелочевки фронтовиков в столыпинские вагоны бросают да на кичеван отправляют.
Выждав момент, когда Мадьяр по-настоящему прочувствует ту безысходность, в которой оказался он сам и его разведчик, Боцман поднял в руке наполненный водкой стакан и негромко произнес:
– За удачу, которая пока что не покидала нас.
– Да, конечно, – засуетился Мадьяр, поднимая свой стакан. – За удачу!
Бросив в рот кусочек свиной колбасы домашнего копчения и захрустев соленым огурчиком, он уважительно качнул головой и столь же уважительно пробормотал:
– Ну, Боцман, ты и даешь! Не знал бы тебя лично, вовек бы не поверил, что возможно такое. Разоружить вертухаев в кучумке [61] , прихватить с собой ихние плевальники [62] и по дороге к нам успеть подломить сельпо, забрав оттуда всё, что только могли вынести.
– А ты-то откуда про вертухаев в кучумке да про сельпо знаешь? – насторожился Бокша.
– Ну ты даешь!.. – чуть ли не по-бабьи всплеснул руками Мадьяр. – Об этом сейчас даже глухонемые на скамейках судачат. И про штрафбат, который вертухаев в кучумке наказал, и про сельпо, которое так подчистили, что оттуда даже крысы ушли.
Он рассмеялся было своей шутке с крысами, однако тут же спохватился, спросил:
– Слушай, а на чем вы все это увезти смогли? На руках-то не утащишь.
– Дурное дело не хитрое, – хмыкнул по другую сторону стола Писка. – Мы же еще военную полуторку с вояками на большаке тормознули. Так что кроме машины еще и дудары с волынами [63] прихватили.
И рассмеялся громко:
– Не пропадать же добру.
Судя по той маске, что застыла на лице Мадьяра, про историю с гоп-стопом и военной полуторкой на большаке он слышал впервые, и было видно, как поддернулся нервным тиком его правый глаз.
«Неужто перебор? – насторожился Бокша. – Хреновато. Может, и струхнуть».
Однако Мадьяр думал о другом.
– Ты понимаешь, что теперь обратного пути вам нет? – скривившись лицом, произнес он. – Теперь вас уже не червонец ждет и даже не четвертак, а…
Он не договорил, обреченно взмахнув рукой, но и так было ясно, что именно он имел в виду. О подобном повороте разговора Андрей даже мечтать не мог. Теперь главное – не переборщить и не переиграть, можно и сорваться.
– Аврам, кореш ты мой ненаглядный! Ну вот скажи мне, как ты мог подумать, что мы вернемся в тот же Ужгород, упадем в ноженки тому же следаку и, вытирая свои собственные сопли, будем умолять его о милости царской? – На его лице как бы застыла кривая, вымученная ухмылка, и он как-то очень тихо произнес: – Обратной дороги для нас нет – это и стебанутой ибанушке понятно. Обратная дорога – это трибунал и расстрельный взвод.
Едва не подавившись куском сала при этих словах, Пуля покосился на своего пахана, словно умного совета требовал для столь уважаемых людей. Однако Мадьяр только осадил его жестким взглядом и, повернувшись лицом к Боцману, спросил: