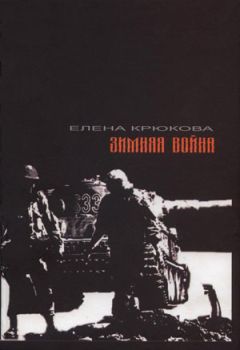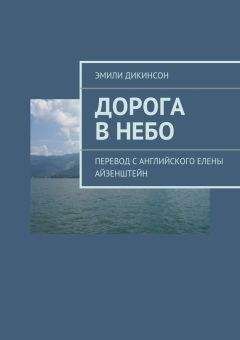Я для них никто.
Где человек, нужный мне здесь и сейчас.
Его нет. А не пойти ли тогда и правда танцевать.
В темный табачный воздух острым клином врубается страстная, возбуждающая музыка. Яростно и настойчиво бьют колокола высоких тонов — жестоко, беспрерывно.
И раздается на всю залу резкий, как эта музыка, крик: «…на стол меня! Хочу танцевать на столе… среди бутылок!.. — как когда-то — Лили Марлен! Ну!..»
Этот крик снится ему, видится. Этот крик входит в него, как нож. И лезвие, вытащенное из него, все окровавленное, блестит, поворачиваясь, перед его закрытыми глазами.
Тебя зовут Юргенс. Меня зовут Лех!
Ты не имеешь никакого права так вздрагивать от голоса женщины. Женщина — сосуд скудельный. К черту женщину. От нее все зло. Кармела скинула тебя со скалы. Она думала, что ты уже мертв. Что будет думать эта?!
Р-раз — и под мышки мужики подхватывают и водружают на уставленный яствами стол женщину в черном бархатном длинном платье с сильно открытой грудью и спиной. Он видит — она складывает пальцы кольцом и пронзительно, хулигански свистит, привлекая всеобщее вниманье, и свист ввинчивается в уши, бьется о мрачные стены залы, разрезает люрекс обивки, отталкивает от стола жрущих и пьющих. Все лица отрываются от еды, от флирта, друг от друга — поворачиваются к ней. О люди, люди. Да вам на самом деле все равно. Люди хлопают в ладоши, свистят в ответ, хохочут и рыгочут, поют, закидывают головы, раскачиваются, топают, ругаются и бормочут, и кто-то садится на пол, скрестив ноги по-восточному.
«КАК КОГДА-ТО ЛИЛИ МАРЛЕН!..
КАК КОГДА-ТО ЛИЛИ МАРЛЕН!..»
Женщина упоенно, счастливо, самозабвенно танцует на столе.
И он, Лех, забыв оба своих имени, забыв о назначенной на модной вечеринке встрече, глядит, как она это делает.
Она сбрасывает в танце на пол вихрящимся подолом платья — рюмки, чашки, миски, ананасы. Бусы ее слетают с шеи, разбиваются и раскатываются со звоном. Она движется меж посуды грациозно и порывисто, напоминая то осторожную дикую снежную кошку, горного барса, то исступленную менаду, то уличную хулиганку из подворотни, то царицу на балу, и почему на ней нет короны?! Ведь должна быть корона!.. Она сверкает и царит. Ей на роду написано на столе танцевать. Лех, гляди на нее завороженно. Спроси о ней. Ты все забыл. Как бы тебе не забыть себя.
«Это вот… кто?» Случайно подвернулся под локоть гость в смокинге, плешивый, с дрожащей губой. Расспроси его. Потряси его за обшлаг, за лацкан. Вглядись в его трясущуюся рожу, услышь оскорбленный скрипучий голосишко: «Как это — кто?! Это наша краса и гордость! Откуда ты свалился, милый?!.. С какой Луны?!.. Это великая Сумасшедшая нашего града Армагеддона. Настоящая Сумасшедшая!.. Другие все поддельные. Все только притворяются. Она одна живет и дышит. Это женщина, которая делает в жизни, что хочет. Понял, сосунок?!» Это он-то сосунок. Он, нюхавший кровь. Вспышка свечного языка выхватила из тьмы его шрамы. И мужик, восхвалявший ему пляшущую на столе, заговорил другим, осекшимся, глухим голосом: «…прости, дружище. Я погорячился, дружище. Зачем нам, дружище, чужая земля. Зачем. Не гляди на Дьявольскую пляску. Уйдем отсюда. У меня в холодильнике дома отличное пиво есть. Такие кургузые баночки. Только горе и залить. И водочка найдется. И селедочка к ней. Идем. Я ведь не валютчик, как они, что тут… вокруг стола… Я по ночам баржи разгружаю. Я тут, видишь ли, сам не знаю, что делаю.» — «Да то же, друг, что и я». — «Тебя сюда позвали?» — «Именно.» — «Ну вот. И меня тоже.» — «Нас всех сюда позвали. А зачем — неизвестно.» — «Ваш номер семнадцатый, вас вызовут!.. И вы заикаться сразу же перестанете!..»
Идиотский смех гостя-грузчика скорее похож на рыданье, и ты слушай смех, Лех, слушай и запоминай. Это пострашней Войны будет, пожалуй.
А женщина с ярким, неподвижным, красивым, белым, раскрашенным лицом все пляшет, пляшет, пляшет на сдвинутых столах.
И он подходит к ней, продирается сквозь пьяную и пряную, жирную и худую, плюющую и жующую толпу.
Кричит:
— Прыгай ко мне!
И протягивает руки.
Его толкают, пытаются оттеснить, отжать. Убери свои лапы!.. Не тронь. Пожалеешь. Откуда эта стоеросовая дубина взялась?!.. Вот черт, не дал красивый танец докончить, мерзавец!.. Ходу, ходу, малый, ходу, полицию не утрудимся вызвать, сами в морду дадим, а еще захочешь — дадим еще… догоним и еще добавим… Он лезет вперед, набычившись, распихивая наседающих. Люди, живые тела, клубки тел, визгов, потных плеч, оскалы, блеск белков. Царство плоти. Где в телах запрятан дух?! Дух — в этом теле, рьяно танцующем на столе, средь бутылей и чашек?!
Он уже у стола.
И она…
…падает к нему в руки, летит…
Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-там.
Барабан. Маленький барабан. Маленький барабанчик. Он внутри. Может быть — это сердце.
Сердце не может так остро и четко, сухо стучать.
Маленький барабан — не ручной пулемет. Он не грохочет. Не поливает огнем. Он стучит сухо, резко и жестко. Четкий, костяной стук. Стук перекрывает все громы, все грохоты. Он — в висках. Он во сне. Когда спишь — от него проснешься. Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-там.
Это Война. Это вечная Зимняя Война. Сквозь все огненные коридоры автоматных очередей. Сквозь рев всех входящих в пике и в штопор самолетов. Сквозь визг и ржанье убиваемых лошадей. Сквозь гул огня над пушками всех горящих танков. Сквозь все оглушенье — тихий, мерный, ужасающий стук. Там. Та-та-та-там. Судьба.
Нет. Это так громко стучит сердце младенца. Прижми его к себе сильней. Согрей. Не отпускай. Его мать умерла. Его мать умерла.
Девушка с перепутанной паутиной светлых, в золотину, волос крепко прижимала ребенка к груди. Девочка, да как еще орет. Плюет все время соску — нажеванный ржаной в туго увязанной тряпице. Эта лошадиная жвачка не по ней. Ей бы молочка. Девушка, сама почти девочка, прижимает грудничка еще крепче. Да не вопи ты!.. Тут такое… Если ты выживешь, малышка… Если мы обе выживем…
Рука девушки судорожно вздрогнула, прижимая дитя, и лунный луч, проникший через высокое окно храма, ставшего грязным бараком, выхватил из тьмы беспалую кисть. Правая рука, и безымянного пальчика нет. Не на что будет обручальное колечко нацеплять. Да мы все тут и так со смертью обручены. С тьмой и пустотой. Все верно. Так надо.
— Да не ори ты!.. My darling, my love… my funny girl…
В ночи, внутри барачного храма, сквозь храп, стоны и кряхтенье, до слуха донесся невнятный шепот. Казалось, шептали очень близко, прямо в ухо. Эхо разносило шепот под сводами. Морозом страха обдавало кожу, спину.
— Просыпайтесь, братья и сестры!.. На службу… на службу святую!.. Идемте… собирайся, братья, люди милые… Утешительный поп, отец Никодим, служить панихиду станет…
Ответный шепоток ошпарил кипятком.
— Тю!.. Сдурел старик совсем!.. Его ж как пить дать расстреляют!..
— Он сам вызвался… Ему все одно… Служить панихиду по Царю-батюшке… Вставай, народ православный…
— О-ох… Лучше б до нас военные те клятые самолеты долетели, разбомбили б нас к чертям, чем муку такую терпеть…
Вставали с полу, с каменных плит, выползали из углов и щелей, как тараканы, не люди, а призраки. Они, как призраки, светились, просвечивали белым. За окном трещал мороз. Крепка здесь зима. Да люди крепче оказались. Иных и пуля не берет. Землей, снегом чуть присыплют — земля шевелится, из-под снега к утру выпрастываются, истекая кровью, с лицами белыми, как метель сама. И тут, во храме, где спят вповалку, — призрачно восставют, власы подъяты, как у отроков в пещи Вавилонской. Грязные лица обросли непотребной шерстью, темны, одичали. Одежда на шевелящихся костях висит клочьями. Люди ли вы? Люди еще. И людьми пребудем. Это Ад. Нет только Адского пламени, жара. Есть лишь лютый мороз снаружи, холод внутри — дохни, и струйка живого пара еще вылетит изо рта, еще белым молоком растворится, разольется во мраке. Мы в царстве теней. Это Царство мертвых?! Это Царство живых, деточка. И мы живые. И живы пребудем. И Война нам нипочем. И мы пойдем на панихиду по Царю. Он принял пулю — примем и мы. Что пуля, кус железа, сделает с живой душой, излетающей вон из тела — на свободу?!
Девушка, с прижатым ко груди ребенком, медленно встала, глядя перед собой широко раскрытыми серо-зелеными, озерными глазами.
Они хотят служить панихиду по Отцу. Батюшка Никодим ничего не боится. Смелый. Его пытали. Ему пятки факелами жгли. По ребрам железными прутьями били. Он крест с себя не сорвал. Тайно службы на Островах служит. Его завели под видом плотника к проституткам во вшивый барак на Анзере — шлюхи возжелали говеть, и батюшка был призван, никого другого не захотели. Где кто умирал — его втаскивали через окно, его звали на лесосеку, его тащили по сугробам пацаны, шпана, чтобы поспеть, чтобы Никодим к холодеющим губам, в кровь искусанным, крест поднес. «Прибавляй-убавляй мне срок человеческий, Господнего срока не изменишь, — усмехался священник, морща высокий, с залысинами, лоб, рыжие, седеющие волосы вставали надо лбом огнем. Острые, живые глаза пронзительно сверлили человеков, внимавших слову. — С мученическим венцом перед Престолом Его мне, иерею, предстать пристойней.»