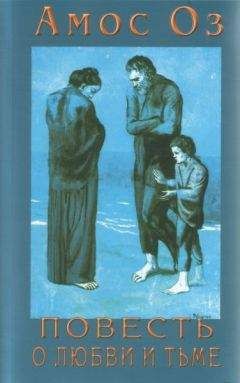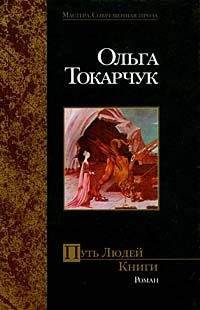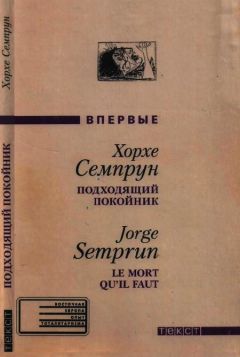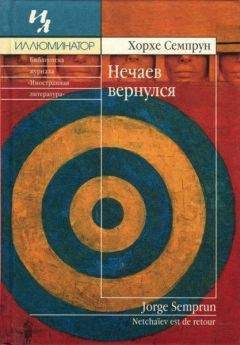Ару напился, теперь дело за мной.
Вода хороша, ничего не скажешь. Не так хороша, как вода Гвадаррамы, вода из источников Паулара или Буитраго, но она хороша, ничего не скажешь. Она чуть-чуть отдает железом. Та вода, что била ключом за огородом в Йерре, тоже чуть-чуть отдавала железом.
Напившись, мы встали посреди площади.
Мы осматриваемся вокруг, топчемся на камнях деревенской площади. Интересно, страшится ли нас деревня, боятся ли нас крестьяне. Они ведь работали на здешних полях; год за годом, работая на своих полях, они видели лагерь. По воскресеньям мы смотрели, как они идут по дороге, с женами и детьми. Стояла весна, как и теперь, и они прогуливались по дороге. Это были люди, которые вышли на прогулку в воскресный день, после недели тяжкого труда. Они все были у нас как на ладони, каждый жест их был нам понятен. Они-то ведь жили прежней жизнью. Наш завороженный взгляд сразу ухватил их изначальную сущность. Это были крестьяне, и в воскресенье они прогуливались по дороге со своей семьей. Но они-то, что могли они думать о нас? Должна же была существовать какая-то серьезная причина, чтобы людей заточили в лагерь, заставляли работать от зари до зари, зимой, как и летом. Мы были для них преступниками, которые, судя по всему, совершили какие-то страшные преступления. Наверно, именно так думали о нас эти крестьяне, если допустить, что они вообще о нас думали, что имели хоть какое-то представление о нашем существовании. Видно, они никогда всерьез не задумывались о нас, вернее, о тех вопросах, которые порождал сам факт нашего существования. Наверно, мы принадлежали к числу явлений, над которыми они не привыкли задумываться, которые они не могли, да и не хотели осознавать как проблемы, требующие разрешения. Война, преступники на Эттерсберге (к тому же еще чужеземцы — а последнее обстоятельство всегда помогает отбрасывать ненужные вопросы, способные лишь усложнять жизнь), бомбежки, поражение, как и прежде победы, — все явления этого порядка выходили за пределы их понимания. Они обрабатывали свои поля, по воскресеньям, после обедни, совершали прогулки — все остальное оставалось для них непостижимым. Да, это правда, все оставалось непостижимым, коль скоро они ничего и не стремились постичь.
— А что, в этой деревне никого нет? — спросил Пьер.
— Есть, конечно, сам, что ли, не видишь, — ответил Ару.
В самом деле, видно, что в селе есть люди. На многих окнах шевелятся занавески. За нами следят чьи-то глаза. Мы пришли сюда в поисках прежней жизни, той, что протекает на воле. Но мы принесли с собой угрозу, которая чудится людям во всяком незнакомом явлении и тем более в реальности, которая вчера еще считалась преступной и наказуемой. Деревня сторонится нас.
— Ну что ж, — говорит Пьер, — нам остается лишь уйти восвояси.
Он совершенно прав, и все же мы почему-то медлим, мы топчемся на площади, разглядывая дома, чья тайная жизнь скрывается от нас. Чего мы, собственно, ждали от этой деревни?
— Чего вы хотите? — говорит Диего. — Это же немецкая деревня. И нечего раскисать.
Значит, мы все раскисли. Раз Диего так говорит, значит, мы и впрямь раскисли. Значит, и я тоже раскис, потому что, глядя на остальных, я отлично видел, что все они раскисли. В том числе и сам Диего.
Переглянувшись, мы смущенно улыбнулись.
— Ну что ж, пошли, — сказал Ару.
И мы ушли. Деревня изгнала нас, она извергла звук наших шагов, возмутивших ее покой, безмятежность и чистую совесть, извергла наши полосатые комбинезоны и бритые головы, наши взгляды, для которых по воскресеньям вся жизнь на воле воплощалась в том селе. А теперь, выходит, это вовсе была не воля, это была лишь другая разновидность плена, другое подобие жизни в том самом мире планомерного угнетения, олицетворением которого стал лагерь. Мы уходим. Вода все равно была хороша, ничего не скажешь. Свежая вода. Живая.
— Держись, старик! — говорит парень из Семюра.
С тех пор как занялся рассвет, я впал в какую-то сонную одурь.
— Что? — встряхиваюсь я.
— Черт побери! Вот уже который час едем без остановки, а ты словно ослеп. Надоело тебе, что ли, смотреть на пейзаж?
Я угрюмо гляжу в окно. Что правда, то правда, мне больше неохота любоваться пейзажем. К тому же пейзаж в сравнение не идет со вчерашним — с долиной Мозеля под снежным покровом.
— Ничего в нем хорошего нет, в этом пейзаже.
Парень из Семюра заливается смехом, но, по правде говоря, смех этот какой-то натужный.
— Чего же ты хочешь? — допытывается он. — Туристическим маршрутом ехать, что ли?
— Ничего я не хочу. Просто вчера вид был красивый, а сегодня нет.
С тех пор как занялся рассвет, у меня такое чувство, будто мое тело вот-вот разлетится на тысячу частиц. Каждую из этих частиц я ощущаю в отдельности, точно связи между ними распались, а мозжащая боль рассеялась где-то в пространстве. Помню, в Гааге меня, мальчишку, водили в большой парикмахерский салон неподалеку от «Бэйенкорф», и, сидя в этом салоне, я пытался почувствовать отдельно от себя — своим отражением в большом зеркале — вибрацию электрической машинки и прикосновение ее проводов к моим вискам и затылку. Это была большая мужская парикмахерская, где стояло не меньше десяти кресел, а во всю стену перед ними тянулось длинное зеркало. Провода электрических машинок перемещались на чем-то вроде багета — клиент мог дотянуться до него поднятой рукой. Теперь мне кажется, что в лагерной дезинфекционной была та же система электрических машинок, перемещающихся на чем-то вроде багета. Только кресел там, понятное дело, не было. И вот, опустившись в парикмахерское кресло в салоне неподалеку от «Бэйенкорф», я начинал привычную игру: в духоте, под жужжание машинок, намеренно отрешаясь от самого себя, я погружался в сонливость, похожую на прострацию. Потом, как-то внутренне подобравшись, я впивался взглядом в свое отражение в длинном зеркале, занимавшем всю стену напротив. Вначале главное было — сосредоточиться именно на моем отражении, только на нем одном, отъединив его от всех других отражений в зеркале. Скажем, бреют рядом огненно-рыжего голландца, но его голова ни в коем случае не должна мешать моей игре. Несколько минут я пристально, чуть не до боли в глазах вглядываюсь в свое отражение, и вот мне начинает казаться, что оно отделяется от полированной поверхности, приближаясь ко мне, а иногда, наоборот, удаляясь от меня, но, так или иначе, рамка лучистой бахромы отгораживает его от всех остальных отражений, расплывшихся и потускневших. Еще одно усилие, и я больше не чувствую вибрации машинки на своем затылке, то есть нет, я ее чувствую, но не на этом своем затылке, а на том, другом, на затылке, который должен быть у моей головы, отраженной в зеркале.
Но сегодня мне нет нужды затевать эту мучительную игру, чтобы отсечь от себя физические ощущения, сегодня разбитые, размозженные, искромсанные части моего тела ноют, рассеявшись в тесном пространстве вагона. Во мне самом не осталось ничего, кроме огненного клубка, пористого и жгучего клубка где-то позади глаз, и в нем отдаются иногда вяло, иногда вдруг с неожиданной остротой боли, терзающие каждый кусочек моего разметанного в пространстве тела.
— А все-таки мы едем, — говорит парень из Семюра.
И едва он это сказал — бледное солнце вспыхивает в стеклах будки стрелочника, и поезд тормозит у вокзальной платформы.
— Вот свинство! — вырывается у парня из Семюра.
На тех, кто стоит у окошек, забранных колючей проволокой, со всех сторон сыплются вопросы. Пленники хотят знать, что там такое — станция или мы опять, в который раз, застряли в открытом поле.
— Станция, — говорю я тем, кто стоит позади.
— Похоже на большой город? — спрашивает кто-то.
— Нет, — отвечает парень из Семюра, — вроде бы городишко маленький. — Прибыли? — спрашивает другой. — А кто его знает, приятель, — отзывается парень из Семюра.
Я оглядываю станцию и то, что виднеется за ней, — правда похоже на маленький городишко. На платформе пусто, только у дверей в зал ожидания и у выходов для пассажиров маячат часовые. За стеклами зала ожидания и у турникетов волнуется толпа.
— Видел? — спрашиваю я парня из Семюра.
Он кивает головой. Видел.
— Похоже, что нас ждут.
Мысль, что, может, это и есть конец пути, барахтается где-то в пелене моей безысходной усталости. Я думаю: может, это и вправду конец пути? Но мне от этого ни тепло, ни холодно.
— Может, это Веймар, — говорит парень из Семюра.
— А ты все еще уверен, что нас везут в Веймар?
Может, и вправду мы в Веймаре, может, это и вправду Веймар, но мне от этого ни тепло, ни холодно. Мое сознание — сумрачное пространство, по которому вихрем проносятся жгучие боли.
— Больше некуда, старик, — терпеливо отвечает парень из Семюра.
И он пристально вглядывается в меня. Я понимаю — он думает: лучше, если это и впрямь Веймар, лучше если мы прибыли. Я понимаю — он думает: мне долго не протянуть. Но мне и на это плевать, протяну ли, не протяну, крышка мне или нет.