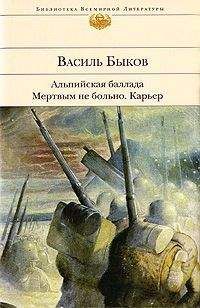– Кто командир?
Хлопцы по-одному подходят и останавливаются. Все хмуро молчат, полные еще не до конца пережитого страха. Даже не верится, что мы уцелели. А сколько погибло в воронках!.. Полковник нетерпеливо переступает валенками и зло щелкает себя прутиком по голенищу. Рядом молча стоят несколько командиров из его группы. Все мрачно смотрят на нас.
– Кто старший, я спрашиваю? – со скрытой угрозой выкрикивает полковник.
– Ну, я старший, – подходя к начальству, хриплым басом говорит Евсюков. По-прежнему он распахнут, из-под куртки видна нательная рубаха. Бинт на шее в крови.
– Кто вы такой? Ваше звание? – спрашивает полковник и сводит над переносицей брови.
– Старший артмастер старшина Евсюков, – мрачно рапортует старшина, приставив ногу к ноге.
Полковник в упор приближается к старшине. Тот внутренне весь напрягается и сверлит полковника упрямым неуступчивым взглядом.
– Почему ушли с высоты? Кто разрешил?
– А кто нам приказывал там быть?
Видно, как полковника передергивает от этой дерзости, и он деланным басом кричит:
– Что? Я вас спрашиваю: кто разрешил оставить высоту? Вы что – в трибунал захотели?
Евсюков, как-то не в лад с этой строгостью, тяжело вздыхает и расслабляется всей своей сильной фигурой.
– Эх, где вы раньше были, товарищ полковник?
Бритое лицо полковника краснеет от возмущения:
– Молчать! Вы с кем разговариваете?..
– Идите вы!.. – вдруг бросает старшина и, склонив голову и пошатнувшись, шагает на улицу.
Кто-то из командиров отступает в сторону, давая ему дорогу. Двое поднимают с земли раненого. Хлопцы медленно идут за своим командиром.
– Старшина! Приказываю вернуться! – кричит полковник, резко повернувшись назад.
Поравнявшись с ним, я тоже останавливаюсь. В душе у меня вдруг вспыхивает гневное чувство обиды:
– Он танки остановил. Если бы не он, немцы бы давно село заняли.
Полковник впивается в меня сокрушающим взглядом и минуту бессмысленно смотрит, будто не понимая, что я сказал.
– Вы кто такой?
– Младший лейтенант Василевич! – выпаливаю я, с вызовом уставясь в его злое лицо.
Я не боюсь. Что он мне сделает, раненому? Все, чего мы добились и что сумели, было совершено по нашей доброй воле. Не надеясь уже остаться в живых, мы легли под самые танки. Действительно, где ты тогда был, товарищ полковник?
– Марш туда, младший лейтенант! Приказываю подразделению оборонять высоту!
– У меня нет подразделения.
– Как нет? Где ваше подразделение? Марш один, сам! Черт вас возьми! Я вас заставлю!..
– Я ранен! Вот, не видите? – кричу я в ответ. После пережитого этот тон и требовательность, этот наскок неизвестного полковника раздражает и злит до бешенства. Пусть бы шли и защищали – вон сколько их тут, свежих, здоровых, высоко образованных в военном деле! Зачем заставлять калек!
Полковник что-то кричит и замахивается на меня прутом. Но тут где-то рядом раздается взрыв, который, видно, впервые в жизни меня не пугает. Соломой и какой-то трухой бьет в наши лица, чем-то горелым густо посыпает возле машин снег. Полковник падает, и тогда я невольно спохватываюсь: не убит ли? Черт с ним, пусть бы уж жил. Все же командир. Но я напрасно пугаюсь. Вскоре полковник поднимается, выползают из-под машин его командиры, и чей-то встревоженный голос предостерегающе вскрикивает:
– Товарищ полковник, генерал!
С улицы к нам сворачивает еще один «виллис». Полковник торопливо отряхивает с бекеши снег, а я, уже безразличный к его тревоге, бреду себе, куда пошли наши. Меня уже никто и не останавливает: им не до меня. Вскорости слышу, как генерал принимается отчитывать полковника:
– Что у вас тут делается? Почему дорога не перекрыта? Почему не выполнен приказ о выдвижении ИПТАПа? Разгильдяйство и головотяпство! Я отстраняю вас от командования...
Оказывается, он сам не выполнил приказ, потому так и накинулся на нас. Но мы не в силах заменить противотанковый полк. Мы не можем искупить его оплошность. Мы можем только погибнуть. Однако мы уже совершили что-то значительное, к чему не имеет касательства полковник, и это дает нам право не подчиниться несправедливому приказу. Не вполне осознанно еще, но я чувствую нашу правоту в этом конфликте.
Я вижу, как впереди какой-то боец с забинтованной рукой спрашивает о чем-то второго, встречного, и тот указывает ему вдоль улицы. Нетрудно догадаться, что они имеют в виду. Я иду за этим, перевязанным, стараясь не упустить его из виду. Тем более что уже темнеет: солнце скрылось и меж мазанок сгущаются сумерки. Просто странно, как быстро пролетел день, который там, на пригорке, казался таким бесконечным. Танки в другом конце села куда-то уходят. Теперь стрельба и скрежет болванок слышны за бугром в степи. Там же дым. То ли от того, подожженного капитаном, то ли на этот раз уже от нашего. Возможно и такое.
Прежние переживания отступают, и меня все больше охватывает беспокойство за Юрку. Жив ли он хоть? Неужели не выживет, погибнет теперь, когда чудом выбрались из самого ада? Теперь наши танки, видно, немцев сюда уже не пустят. Те м более когда появился генерал. Уж он наведет порядок. Так я полагаю, ковыляя по улице. Вернее, мне хочется, чтобы было так. Я совершенно выбился из сил, чувства мои одеревенели. Единственное желание владеет мной – прибиться где-либо к теплу и свалиться.
Боец, идущий впереди, сворачивает к домику с обведенными синей краской окнами. Похоже, это нежилой дом, может, сельсовет или немецкая управа, под жестью, с высоким крыльцом. С помощью костыля-карабина добираюсь туда и я. Скрипучая дверь неохотно открывается, пропуская меня вовнутрь.
– Ну, может, и по третьей? Раз не повезло с гостиницей, так хоть выпьем, – раскрасневшись с лица и заметно подобрев, говорит Горбатюк. – А ты почему не ешь?
– Я ем.
– Что это за еда? Вспомни, как, бывало, на фронте ели. Котелок пшенки на двоих и – как вылизанный. Ординарцу и мыть не надо.
– Котелок давали на четверых. По крайней мере в пехоте.
– Ну, в пехоте я не был, – благодушно признается Горбатюк.
Перед нами еще что-то блестит в графине. Горбатюк наелся, полноватые его щеки сыто лоснятся, глаза щурятся в снисходительной доброте. Я также готов подобреть. В конце концов, черт с ним, с этим Сахно! Ошибся, так, может, и лучше. Зачем мне встречаться с ним?
Горбатюк откладывает нож и вилку и мнет в кулаке бумажную салфетку. Я облокачиваюсь на стол. Не терпится узнать о нем до конца. Чтоб уж без всяких сомнений.
– Скажите, вы не танкист?
– А как же! Танкист! – с горделивой радостью восклицает Горбатюк. – Три года в танковой армии. От Курска до Берлина. Все стежки-дорожки прошел. Что, может, тоже танкист?
– Нет, пехота, – отвечаю я.
Но мой ответ его не разочаровывает.
– Пехота – царица полей. Основной род войск.
Взрыв веселого смеха за соседним столом заставляет его оглянуться. Возле чернушки, положив ей на плечо широкую руку, улыбается плечистый блондин.
– А тише нельзя? – строго спрашивает Горбатюк.
– Можно, – отвечает крайний за столом, круглолицый и светлобровый, в темном костюме парень. – Эрна, просят на полтона ниже.
– На полтона ниже! – с озорной властностью приказывает Эрна соседу.
Тот, выждав, пока за столом уймется оживление, несколько тише, но все с тем же нарочитым пафосом продолжает:
– Ну скажите! Скажите, почему я ее люблю? Что в ней? Осанка? Грация? Красота? – наивно округляя глаза и жестикулируя широкими ладонями, спрашивает он. – Шпингалет! Кого она может родить, такая блоха? Разве что другую блоху! Это в биологическом, так сказать, плане. А в общественно-политическом?..
– Отставака! Хвост по политэкономии, – саморазоблачительно напоминает Эрна.
– Грубиянка! – подсказывает ближайшая к ней блондинка.
Остальные за столом кричат:
– Задира и насмешница!
– В стенгазете не зря продернули!
– Поспорила с ректором.
– Правильно! Все правильно! Спасибо за помощь. Сплошной пережиток прошлого. И частично будущего. А вот люблю. И все! Так объясните, почему? Вы! Философы! Моралисты! Комсорги! Почему, а?
Он притворно недоумевает. Ребята наперебой пробуют что-то объяснить. Одна Эрна лукаво улыбается. Она-то отлично понимает это его «почему».
– Ну так что? Взяли? – для приличия спрашивает Горбатюк и разливает остаток водки. – Как говорят, дай Бог не последнюю.
– Ну!
– А впрочем, куда спешить? Посидим до закрытия. – Он отставляет рюмку и закуривает. Жадно затягивается. Потом окидывает меня пристально-испытующим взглядом.
– Что-то невеселый, гляжу. Или характер такой?
– Характер.
– Откуда приехал?
– Да тут недалеко. Из-под Менска.
– Ага. Белорус, значит. А где работаешь?
– В клубе.
– Значит, по культурной линии?
Мне неприятен этот сухой допрос, и, чтобы прервать его, я, в свою очередь, спрашиваю:
– А вы по какой линии?