— Не мне. Тебе, мама.
— А что?
Юля встала и отошла. Часть просторного окна выступала из-за кровати, на которой горбилась уставшая мать, и, взявшись рукой за старомодную никелированную спинку с шарами, Юля ткнулась лбом в холодное стекло, чтобы остудить себя хоть немного.
— А то, мама, что я не о себе забочусь. А о нем. И я ему помогу. Я знаю, что сделаю...
— Что?
— Пойду.
— На работу к нему?
— Очень я там нужна! Я пойду...
— К его друзьям?
— Каким? Я и не знаю никого!
— Слава богу. Друзья в такой момент спаяны. Единой семьей. На то они и друзья.
— Пойду...
— К ней?
— Еще чего придумала! Заладила. Не приставай!
Другая, может быть, вспылила бы сейчас, в оборот взяла дочку, а Юлина мать тихонечко рассмеялась.
— Есть, конечно, способ, чтобы вы были счастливы... Засесть мне у двери с ружьем в руках. Вы — жить, а я сторожить. Чтобы он не бегал на сына смотреть, к жениным подругам — узнавать, как она там? На все — время. И ребенок первый обвыкнется, и жена, и отец, все обвыкнутся! — закончила она, и Юля еще раз посмотрела на часы:
— А! Уже опоздала. Сейчас позвоню, пусть вызывают Фросю. А я...
Обе замолчали, не двигаясь с места. Задумались. Может, об одном, а может, о разном. Может, вспомнилось Юле, как она запускала пальцы с раскрашенными ногтями (ползарплаты отдала за этот французский перламутр!) в Костины вихры и перебирала их, эти вихры с сединками, только в упор заметными в пшеничной густоте. Ничего не стало в жизни дороже, чем гладить эту голову. И она обнимала его, молчуна, чтобы задержать на какие-то минуты. Ничего не стало в жизни дороже, чем вот так обнять его. Во всем, самом высоком, есть земное, которое, может быть, выше всего, и от этого вдруг и становится горячо на душе. Может, само счастье наступает, когда высокое и земное соединяются?
В последний раз Костя ушел, объявив ей, чтобы ждала его насовсем, и первой, кому она рассказала о непредвиденной новости, была мать. У нее не было подруги ближе матери. Может быть, у всех девушек так, кто знает.
Мама выслушала и, поработав своей рукой под бельем в шкафу, извлекла оттуда тряпичный узелок с деньгами.
— Купишь свадебное платье, вот.
— Ты ж до случая берегла, раньше говорили, на черный день.
— А радость — не случай? Радость всего дороже... Светлый лучше, чем черный.
Вспомнили, как давно уж, лет десять назад, выходила замуж соседка, а шустрая Юлька стянула у нее фату и напялила на себя, выкамариваясь перед зеркалом. Принялись ругать ее почем зря и мама, и сама соседка, а Юлька плакала и тянула: «Да-а, все хочут быть невестами!»
Посмеялись, вспомнив это, а посмеявшись, мать предупредила:
— Ну, теперь держи его крепче!
— Зачем?
— Чтоб не удрал.
— Разве они удирают, женихи?
— Они? Чемпионы. Твой отец так удрал, что до сих пор неизвестно где! А то — училась бы, и платил тебе как миленький!
— Мама! А ты называла его миленьким?
— Как во все времена. И все люди.
— Сейчас и люди другие, и время совсем другое!
— Что верно, то верно. Говорить стали меньше, а бегать научились шибче. Ну, смеюсь, смеюсь...
Они и правда смеялись.
Юля снова подошла к зеркалу и стала причесываться для другого маршрута. А мать раскрыла на коленях детскую книжку, которую вынула из-под подушки. Она пристрастилась к детским книжкам с картинками и читала их, сторожуя в универмаге, а дома собрала себе, можно сказать, детскую библиотеку. Одной рукой она гладила книжку, а другой потирала лоб, не нравилась ей непонятная Юлина затея. А Юля заявила еще решительней:
— Пошла.
— Да куда ты?
— Знаю, куда.
Она застыла перед зеркалом натянуто и неподвижно еще на миг, как перед фотоаппаратом, и ушла, не обронив больше ни слова.
Шагая по тротуару, думала: чем понравился ей Костя, чем взял ее? Неправильное лицо, длинные зубы, волосы на висках вьются беспорядочными колечками и мягкие, как у младенца. А ее мечтой и эталоном были настоящие мужчины с колючими усами.
Продолжала изо всех сил хаять его в гудящем автобусе и на каждой остановке грозилась выйти, но все же ехала. Вот на этой остановке взять и сойти, последней? Мать права: ей, наверно, лучше бы так! А ему? Не за своим же счастьем она ехала.
Ей открыла пожилая женщина, лицо в морщинах, но все же чем-то неуловимым перекликающееся с Костиным лицом, выражением глаз, что ли...
— Здравствуйте.
— Вы к кому?
— К Михаилу Авдеевичу.
— Из больницы?
Юля покраснела от смущения, и на донышке сердца засвербил стыд.
— Нет, я... я, — надо было врать, а что — никак не придумывалось. — Ну ладно, я в другой раз...
— Да кто вы?
— По общественной линии...
А женщина почему-то обрадовалась:
— Правда? Раньше-то по этой линии к нему без отбоя, а теперь... Вас как зовут?
Она ответила и сама спросила, как называть старушку, а та уже сунула за внутреннюю дверь голову.
— Миша! Тут к тебе.
И вот уже Юля топталась в своих сапожках перед стариком, лежащим в постели, и руки его — неживого цвета, поверх одеяла из верблюжьей шерсти, напугали Юлю, и белые усы напомнили моржовые клыки, которые могли в бой вступить, если бы старик не был так слаб. Клыки с трудом шевельнулись от улыбки, попытавшейся выбраться из-под них.
— Садитесь, — еле слышно предложил старик.
— Куда?
— Куда хотите... На стул. Или вон, кресло придвиньте из угла поближе ко мне. Я слышу все, не волнуйтесь, а сам говорю тихо.
Она пододвинула кресло, расстегнула и развела свой плащ, а присев, распустила кашне, будто устраивалась надолго, и лишь потом поинтересовалась у себя: зачем? Скрестила пальцы и покрепче сжала ладони, чтобы унять, хоть каплю, расходившиеся нервы.
— С завода? От молодых, наверно? — спрашивал он шепотом, но все бойчее.
— Нет, Михаил Авдеевич, я сама по себе.
Лоб его над серыми бровями озадаченно наморщился, вдруг заледенив гостью страхом. Что-то не то она сказанула. Помрачнел старик и все молчит и молчит. И уже когда казалось, что она может так и сама навсегда голоса лишиться, он не спросил, а сказал, утверждая:
— От Кости вы.
— Костя меня не посылал!
— Значит, сами пришли?
— Может, я сделать чего смогу? — заторопилась Юля. — Из буфета продукты принести. Из своего, любые... Я мигом!
— Ты в буфете работаешь? — спросил он, смягчившись самую малость, но Юля почувствовала это и в голосе, и во взгляде.
— На вокзале, — ответила она.
— Там и познакомилась с моим Коськой?
— Он ночью туда пришел.
— После смены?
— Да.
— И стал ходить?
— Да.
— Часто?
Она молчала, а его голос становился все напористее, и она прошептала:
— Я пойду?
— Нет, уж сиди, раз пришла. У нас с тобой неизбежный разговор, такое дело... Ты не явилась бы ко мне, я бы сам отыскал тебя. Такое дело... — повторил старик. — Это хорошо, что запросто пожаловала, спасибо тебе, Юля, я правильно называю, не сбился?
— Я — Юля.
Ее лицо меркло, как лампочка, от которой отключили ток. Завяло на глазах, и Михаилу Авдеевичу даже стало жалко ее. Он посмотрел на гостью пристальней. Была она, конечно, видом подешевле Тани, но моложе и — есть поглядеть на что. Чернявая, как цыганка, и глаза добрые, и следит за собой, не отнять.
В минувшие недели он не раз спрашивал себя, отчего это Таня с Костей забыли их, не ходят в дом на Сиреневой, как раньше, а вот и разгадка! Он-то считал, не совпадают у Тани с Костей свободные часы, это случается у рабочих людей, и не может Таня наполнить старый дом своим смеющимся голосом, словно бы не говорящим, а поющим со звучной силой. Он любил этот голос. И вспомнилось, как Костя смотрел на жену, ликующий, и в каждом его взгляде была любовь. А тут вон оно что!
Не совпадали свободные часы, а вот уже в кресле сидела и красавица, ночами наливавшая Косте по стаканчику в своем вокзальном буфете...
О чем говорить с ней дальше? Он потрогал усы. А она вдруг вся посветлела, как будто снова включили ток.
— Я Костю не видела давно, испугалась, а вдруг заболел? Ведь со всяким может быть!
— Это я.
— Грех радоваться, а я радуюсь, что не он. Простите. — Она подобрала ноги. — Страшно было ничего не знать. А теперь я ляпаю, наверно, совсем не то, что нужно. То ли от радости, то ли от страха.
— Ничего не знать — самое страшное, — подтвердил Михаил Авдеевич. — Потому и благодарю тебя, что пришла.
Уйти бы поскорей, подумалось Юле, все сказано, что нужно и можно. И старик болен, Костя не обманул.
— Он жениться на тебе обещал, Коська? Ты его к себе домой водила?
Юля коротко и быстро тряхнула головой: да.
— Семью оставить задумал?
Она еще раз тряхнула головой.
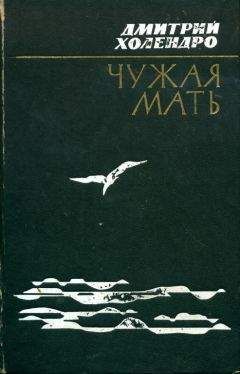

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/262305/262305.jpg)


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149595/149595.jpg)