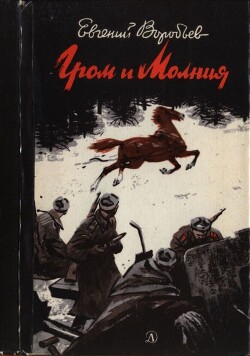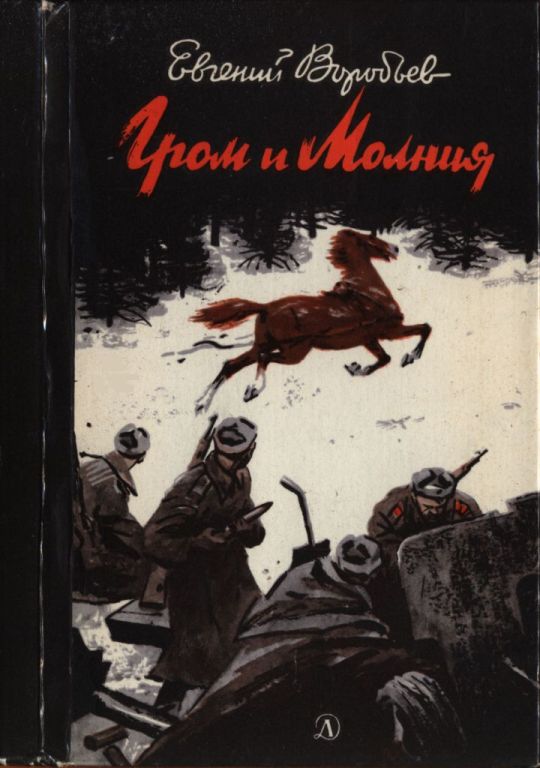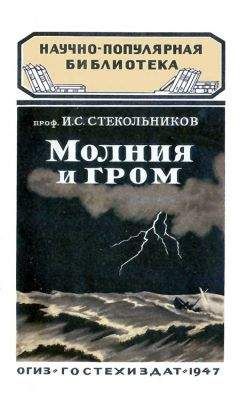«За кого же сегодня воюет молодой Коротков — за «синих» или за «красных»? — вдруг подумал полковник, пропуская мимо ушей донесение какого-то не в меру словоохотливого посредника. — Забыл даже спросить, где он у меня служит, в какой роте или батарее».
Мозжухин стоял на гребне высотки и всматривался влево, откуда появилась передовая цепь «синих». «Синие» должны были оседлать большак и «взорвать» мост. С высотки открывался просторный вид на окрестные поля и березовые рощицы, на речку, огибающую хуторок кривым серебряным серпом, на большак, окаймленный тусклой от пыли травой.
«А ведь какому-то полку пришлось эту землю отвоевывать, — подумал Мозжухин. — И какой-то безвестный командир, наверно, сражался за господствующую высотку, на гребне которой я расхаживаю сейчас. И Молодых, ожидающий с машиной у подножия, не встревожен тем, что эта высота просматривается и простреливается противником».
Полузасыпанные землей, обмелевшие траншеи, колья от проволочных заграждений на опушке рощи, отчетливо очерченной после того, как туман улетучился, обугленные березы на обочине большака, разбитая мельница у моста — следы давно отгремевшего боя.
Судя по всему и прежде всего по числу воронок, заросших многолетней травой, бой был упорным. Любопытно, конечно, было бы узнать, как именно разыгрался этот далекий бой, каковы были его перипетии и жаркие подробности. Как знать, не здесь ли воевал полк, в котором служил его Сережа? Но таких справок местность не давала.
Мимо старых воронок тянулась по большаку батарея «синих», и Мозжухин с удовольствием оглядел сытых, подобранных в масть вороных коней, которые сейчас были покрыты таким густым слоем пыли, будто на них набросили серые попоны.
Левее высотки по пыльной, блеклой траве шагали минометчики; вылинявшие гимнастерки их были под цвет травы. Минометчики меняли огневую позицию и перетаскивали минометы на себе в разобранном виде.
Мозжухин скользнул взглядом по нестройной цепочке солдат и почти тотчас же увидел молодого Короткова. Широкоплечий парень шагал легко, даже весело, хотя и был навьючен лотками с минами. Потом Коротков отдал лотки соседу, сам же взвалил на спину плиту, самую тяжелую часть миномета. Но и сейчас он продолжал шагать легко; это не была походка человека, несущего тяжелый груз.
И снова Иван Коротков то ли фигурой, то ли походкой удивительно остро напомнил Мозжухину его Сережу.
— Сынок! — прошептал Мозжухин с неожиданной тоской.
Всю войну, даже после трагического известия, Мозжухин представлял себе сына таким, каким видел его в последний раз, — школьником, рослым не по годам. Сережа пришел провожать их эшелон в сандалиях на босу ногу, в вышитой парусиновой рубашке; мальчишеский вихор непослушно падал на лоб.
Жена писала потом, что призывной участок помещался в школе, а врачебная комиссия работала в учительской. Он отчетливо видел, как Сережа, обнаженный по пояс, с юношески гибким торсом, стоял в учительской у карты обоих полушарий, против портрета молодого Максима Горького.
Он знал, что Сережу остригли, что его обули в сапоги, но все-таки, когда пытался представить себе сына в бою, тот возникал перед глазами с непослушным вихром и в сандалиях на босу ногу.
Долго и печально глядел Мозжухин на плиту миномета, которая мерно покачивалась на широкой спине Короткова и все уменьшалась, так что скоро стала размером с диск автомата, не более.
Солнце палило немилосердно, день выдался знойный, каких мало знает белорусское лето. Ворот гимнастерки теснил шею больше, чем всегда, и Мозжухин думал, что это от жары. Одно-единственное облако заблудилось в небе, которое тоже чуть-чуть выцвело и поблекло под лучами солнца. Мозжухин проводил взглядом облако, нашел, что оно похоже на шкуру белого медведя. Стало еще жарче, и ему опять захотелось расстегнуть ворот гимнастерки.
Потом горнисты протрубили долгожданный отбой, ученья закончились, перестали существовать «синие» и «красные», воскресли «убитые», вернулись в строй «пленные», выздоровели «раненые». Посредники сняли белые повязки. Все отдыхали в спасительной тени берез.
Вечером, после разбора тактических учений, полковник обошел батальоны, где уже царила веселая суета, как всегда перед ужином.
Минометчики расположились на опушке рощи, по соседству дымила кухня. Проходя мимо, Мозжухин услышал голоса и смех на лужайке. Он замедлил шаг, а затем остановился за пучком берез, растущих в обнимку из одного корня. Зачем мешать веселью? Вот так же, бывало, он обходил стороной стайку шалунов-школьников, чтобы не спугнуть их.
Полковник так и остался стоять, никем не замеченный, за этой многосемейной березой.
Старший сержант, по всей видимости сверхсрочник, страшно важничая, рассказывал о поездке в Москву с какой-то делегацией:
— Жили мы в гостинице Москва — Гранд-отель. На манер интуристов. Посещали большие и малые академические театры Союза ССР. Ездили в легковых машинах или, на крайний случай, в двухэтажных троллейбусах.
— Слышали уже про вашу поездку! — отозвался горластый паренек, сидящий на пне. — О вас по всей Москве в три лаптя звонили…
Паренек, видимо, знал себе цену. Совсем как актер в театре, он сделал паузу, подождал, пока все отсмеются, и уже потом совершенно серьезно спросил:
— Это не вы там, в метро, от портянок запонки потеряли? По радио даже искали…
«От портянок запонки», — повторил про себя Мозжухин и усмехнулся.
Больше за смехом ничего нельзя было расслышать. Тот же паренек принялся подшучивать над товарищами, которые уплетали по второму котелку каши.
— А Коротков, как я погляжу, горазд поесть. Второй час ложкой работает, не ленится.
Полковник выглянул из-за березы, его никто не заметил, и непринужденная беседа продолжалась. Молодого Короткова Мозжухин узнал со спины. Тот стоял на коленях перед котелком и прилежно орудовал ложкой. В задире он признал того самого тщедушного паренька, которому Коротков помог тащить плиту миномета.
— Мимо не проносишь, — не отставал от Короткова паренек. — У тебя рот как раз на дороге. И где ты только такой аппетит нагулял? Вроде и не работал…
— Как работать — мальчики, как обедать — мужики, — миролюбиво, в тон пареньку, ответил Коротков, занятый едой.
Мозжухин даже качнулся и оперся рукой о дерево. Его оглушило воспоминание, сильное, как удар, внезапное, как выстрел над ухом. Он пошел прочь, все убыстряя шаг, точно надеялся быстрой ходьбой унять сердцебиение.
«Как работать — мальчики, как обедать — мужики!»
Ну конечно же, это он! И та же крестьянская манера бережно нести ложку над ломтем хлеба, чтобы несколько капель супа не пролилось на траву. И та же привычка обедать, стоя перед котелком на коленях, не пригибаясь к земле, не округляя плеч, и эти большие руки, привыкшие работать тяжелую работу, и эта присказка насчет мальчиков и мужиков, и интонация, и жесты, и деловитое выражение лица, освещенного блестящими, широко расставленными глазами, — все было давно знакомым.
Все хранилось где-то в тайниках памяти, на самом дне ее. И только сейчас вот Мозжухина сразу осенило воспоминание. Он уже точно знал, чей сын служит у него в полку…
Коротков-отец был в числе охотников, которые вызвались первыми переправиться вплавь через Неман, чтобы доставить на тот берег трос. Только держась за трос, могли противостоять злому течению пехотинцы в намокших сапогах, навьюченные оружием, боеприпасами и амуницией.
Коротков-отец, как и другие, вошел в воду совсем голый, но в каске и подпоясанный ремнем. К ремню были привязаны конец троса, гранаты. Тот же поясной ремень прихватывал ремень автомата, закинутого за спину.
Горстка голых людей заняла круговую оборону на обрывистом берегу, у подножия могучей сосны, к которой выплыли и ствол которой опоясали драгоценным тросом.
Несколько часов отбивался головной отряд от наседавшего противника. Продрогшие, обессиленные люди окопались в мокром песке, они разгребали песок касками.