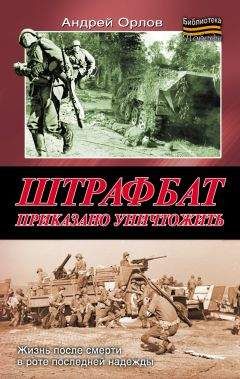— Товарищ капитан? Да вы никак заговоренный?
— Ты, Зорин, из таких же, — прохрипел капитан Чулымов. Выглядел особист ужасно — волосы дыбом, лицо в крови — посекло мелкими осколками. Но вроде не раненый — судя по прыти, с которой двигался. — Чего застыл, сержант? Поползли, что ли? Чуток осталось…
Зорин приподнял голову и ахнул. Тряхнулись кусты на опушке, послышался ровный голос, доносящий до собеседника занимательную мысль. Собеседник гортанно засмеялся.
— Лежите, товарищ капитан, — захрипел Зорин, прижимая Чулымова к земле. — Сдирайте с себя погоны, живо… И портупею тоже…
— Свихнулся, боец… — выдохнул Чулымов. — Я офицер Советской армии…
— Да хоть маньчжурской… — разозлился Зорин. — Помереть торопитесь, капитан? Мертвый вы, конечно, принесете стране неоценимую пользу. Да и врете вы все — хотели бы помереть, не ползли бы за мной… Сдирайте погоны, говорю, пока не поздно, корчите тут из себя офицера благородных кровей…
— Твою-то мать… — Чулымов извернулся, сорвал погон. Зорин помог, рванул второй. Дернул застежку портупеи — капитан начал неуклюже из нее выворачиваться.
— И что ты творишь, Зорин? Все равно убьют…
— А это бабушка надвое, товарищ капитан… Нас еще неизвестно, а вас-то точно убьют…
— Хальт! — прогремело из леса. Затряслись кусты, стали появляться автоматчики в мышиной форме. — Ауфштейн! — подумали и добавили: — Русише швайне!
* * *
Настроение у автоматчиков было благодушное. Не стреляли, лыбились, оживленно обменивались репликами. Один из них даже прогулялся до распластавшегося в траве бойца, поковырял у того в затылке стволом, хихикнул — пора вставать.
Выжившие неохотно поднимались из высокой травы под дулами шмайссеров — их рассматривали с любопытством, как зверушек в зоопарке.
— Курт, и это те солдаты, от которых нам приходится отступать? — с легким недоумением спросил плечистый солдат у сослуживца. — Не может быть, в наших штабах сплошные бездельники.
— Это временное положение дел, Гуго, — отозвался сослуживец. — Их просто очень много. Травят, как тараканов, а их все больше и больше. Мы просто не успеваем справляться.
Лучше бы Зорин не знал немецкого языка…
— Сам ты свинья, — проворчал Гурвич, разгибая спину. — Чуть что, так сразу — русская свинья, русское свинья…
— Что он говорит, Курт?
— А бес его знает, Гуго. Странно, что эти евреи вообще умеют разговаривать.
Солдаты непринужденно засмеялись. Ох как смешно. Штрафники вырастали по одному — оборванные, угрюмые. Восемь человек поднялось, десять, двенадцать. Еще трое…
— А вот еще один, — обрадовался немец и побежал, смешно подбрасывая ноги, к скорчившемуся в траве солдату, наставил на него автомат: — А ну, поднимайся, свинья!
Очень не хотелось штрафнику подниматься. Он вцепился пальцами в землю, словно мог этим что-то исправить. С неохотой подтащил ногу, поднял голову. Образовалась бледная, как бетон, физиономия рядового Марусина. Он облизал губы, издал звук, словно тянул за собой многотонный стальной пресс, насилу поднялся.
— Не умеешь быстро? — гаркнул фашист и ударил прикладом Марусина в живот. Бывший староста согнулся от пронзившей боли, открыл рот, намереваясь что-то сказать, но так и не сподобился. Хлопал ртом, словно пескарь, выброшенный на берег. Распрямил со скрежетом спину, но солдат уже разозлился, вошел в раж — ударил повторно. Марусин выхаркнул сгусток крови, и когда приклад в третий раз полетел ему в живот, с неожиданной прытью перехватил ствол, вырвал автомат у оторопевшего солдата. Но воспользоваться приобретением не успел (да и вряд ли планировал) — простучала короткая очередь, Марусин издал последний стон и повалился набок.
Остальных бы тоже с удовольствием расстреляли. Подошли поближе, подняли автоматы, заулыбались, предчувствуя потеху. Но прозвучал повелительный окрик, из леса вышел офицер, постукивая веточкой по надраенному голенищу. Яркий представитель «высшей» расы. Холеный, надменный, весь из себя такой породистый, аристократ в десятом колене. Видно, забыл уже, как его пращурам костыляли на Чудском озере.
— Отставить! — обронил офицер, и солдатня неохотно опустила автоматы.
Офицер насмешливо рассматривал жмущихся друг к дружке штрафников. Сделал знак, чтобы сняли ремни, вещмешки и пилотки — у кого они еще оставались. Подошел поближе, начал разглядывать всех по второму разу. Пренебрежительная ухмылка перекосила чистопородную физиономию. Зорин украдкой покосился через плечо. В поле трещали одиночные выстрелы — солдаты ходили между телами и добивали раненых. Рычали моторы — танки объезжали высоту. Советские «тридцатьчетверки», приданные в качестве огневого прикрытия штрафной роте, уже догорали. С дороги на западной стороне в поле съехали грузовики, солдаты зачехляли минометы, грузили в кузова.
Он перехватил офицерский взгляд, сделал лицо суровее, чем военный монумент, — на это ушли последние моральные и физические силы. Впрочем, углубленному изучению его не подвергали. Немецкий офицер перешел к Чулымову, который кусал губы и, потупившись, смотрел в землю. Скользнул глазами по плечам, на которых болтались нитки, и ткань под погонами была не такой выгоревшей. Улыбнулся всецело понимающе. «Не проехало», — с печалью подумал Зорин. Капитан почувствовал, что его изучают, медленно поднял голову, выдержал взгляд. Вздохнул глубоко, расправил плечи.
— Всех в тыл, — бросил офицер, сбивая веточкой ползущего по колену жучка. — Послушаем, что они нам расскажут.
— И этого тоже, герр гауптман? — солдат кивнул на Гурвича, который сразу же сделал мечтательно-меланхоличное лицо и воззрился ясным взором в небо.
Зорин мысленно чертыхнулся. И как эти нелюди насобачились распознавать евреев? Ведь такие же люди! Он сам их часто путал — что в евреях такого характерного? А может, Гурвич армянин? Или молдаванин. Или итальянец, в конце концов.
— И его туда же, — снисходительно махнул веточкой гауптман. — Допрашивать будем, а не награды раздавать. А евреи — твари болтливые, когда жить хотят. После допроса — всех расстрелять.
«Кто бы сомневался», — подумал Зорин.
* * *
Продолжалась жизнь в тумане. Выживших штрафников конвоировали по пыльной дороге. Солнце жарило немилосердно. Воздух после полудня раскалился, дышать стало нечем. Дождей в этой части света не было уже несколько дней. До сознания не доходило, кто идет впереди него, кто сзади. Он думал, но не об этом. Мысли роями носились в голове. Нельзя им в населенный пункт, оккупированный немцами. Оттуда уже не выбраться. Будут допрашивать, пытать, а потом все едино в расход. Помирать нужно здесь, на этой дороге — нельзя помирать, когда чувствуешь обреченность. Помирать можно только в том случае, когда имеется надежда…
Он украдкой косился по сторонам. Их построили в колонну по два — ох уж эти немцы со своим угнетающим порядком. Особо не гнали — самим бежать не хотелось. Двигались прогулочным шагом — вернее, немцы двигались прогулочным шагом, а штрафники тащились, волоча ноги, вдыхая пыль украинских дорог. Справа трое солдат, двое слева — шли по травке, за пределами обочин — явно не любители осаживать пыль на легкие. Автоматы висели на ремнях стволами вниз. Один из солдат нагнулся, сорвал ромашку, сунул нос в сердцевину и шумно вдохнул. Нос окрасился желтой пыльцой. Засмеялся, как придурок. Пять минут назад их обогнала тройка мотоциклов — пришлось подвинуться, чтобы не угодить под колеса. Немцы хохотали, бросили в Зорина скомканный фантик от конфеты. А три минуты назад навстречу пропылили два грузовика, крытые брезентом, — и тоже по визгливому окрику пришлось сместиться на обочину. И больше никого — целых три минуты. Пустая дорога. За обочинами лес, до него шагов двадцать, что влево, что вправо. Не чаща, но вполне нормально для бегства. Впереди, шагах в двухстах, мерцал поворот — дорога под небольшим углом забирала вправо. Попробуй угадать, что за поворотом. Вполне возможно, там уже не сбежать — населенный пункт, позиции фашистов (нужное подчеркнуть). Он глянул искоса через плечо. В хвосте колонны шли двое и громко разговаривали. Давешний капитан (видно, тоже в штаб понадобилось) и долговязый унтер в смешных студенческих очках и весь из себя какой-то нескладный. Зорин стал прислушиваться к разговору. Унтер что-то спрашивал, офицер снисходительным тоном объяснял, что операция под названием «Панцирь черепахи», проводимая штабом 18-го механизированного корпуса «Стальная Бавария», по всем приметам, завершается успехом. Русский танковый полк разбит — личный состав почти полностью уничтожен, и половина танков в прекрасном состоянии досталась вермахту в качестве трофеев. Русские, конечно, дикие варвары, но танки у них отменные. Два стрелковых батальона и штрафная рота (потрясающая осведомленность) уничтожены по отдельности, а подразделения «Стальной Баварии», дислоцированные севернее и южнее Жлобина, три часа назад перешли в контрнаступление, отбросили советские войска, сильно растянувшие свои тылы. Так что линия фронта откатилась от Жлобина на восток километров на двадцать. Пока еще русские опомнятся… А не за горами подкрепление, спешащее на подмогу 18-му корпусу. «Возможно, это перелом войны, Рихард, — важно говорил офицер. — Сколько можно выправлять эту линию фронта, в конце концов? Пора уже гнать эту русскую шваль в ее далекую Сибирь…» Потом он начал что-то говорить про «супероружие», которым со дня на день обеспечат войсковые части, и Зорин уже не слушал.