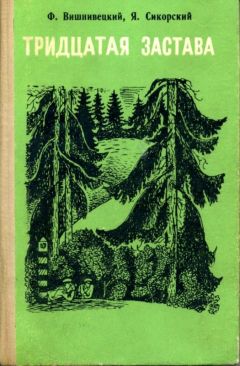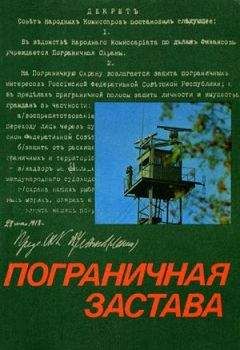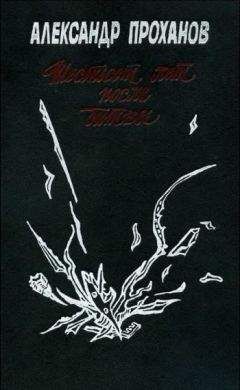Комвзвода знал, слышал от старших командиров о столь опасном разрушении человека. Об унынии, тоске, изъедавших волю и дух. Бывали случаи, когда в этой тоске, на посту, в карауле, в глухую ночную минуту, милый дом, родные и близкие казались невозвратными навеки, и тогда раздавался одинокий негромкий выстрел, и солдата находили мертвым, с неостывшим еще автоматом. Говорили – то ли в Чирикаре, то ли в Газни и Герате, то ли в этом, то ли в позапрошлом году – об этом невнятно толковала молва – случалось, что солдат уходил в «зеленку», сдавался на милость «духов», чтоб спастись от своих мучителей. И там пропадал бесследно. Или вновь появлялся в окровавленной грязной дерюге, жутко изувеченный и истерзанный, на страх остальным.
Щукин смотрел на Лучкова, раздражаясь его робким, запуганным видом, его немощью, неопрятностью и одновременно сострадая ему. Хотел представить его московское житье, его близких, желал помочь, укрепить.
– Я тебя попрошу, Лучков… Ты сейчас в баню пойди, хорошенько помойся, освежись. Подворотничок смени. А потом давай-ка приходи под баки к перекладине. Я тебя потренирую немного. «Солнышко» научу крутить. Это полезно, знаешь…
Лейтенант представил уютный московский дом Лучкова, белую чистую ванну, блестящий кафель, душистый флакон шампуня, зеленоватую воду и перламутровую ароматную пену, мохнатое полотенце на вешалке. Испытал к солдату, данному ему в подчинение, для боя, для тяжких трудов, быть может, для ран и для смерти, – испытал к нему внезапную нежность, вину, готовность взять на себя его заботы и горести. Но не сумел выразить этой нежности и вины. Счел за благо просто уйти, оставив Лучкова наедине с огнем и с печуркой.
В комнате отдыха, в полуразрушенной каменной башне, оставшейся от прежних владельцев, двое саперов, Кафтанов и Макаревич, они же редакторы стенгазеты, трудились над очередным номером. Кафтанов, умевший рисовать, макал в стакан кисть, осторожно набирал на нее краску. Макаревич благоговейно смотрел, как рождается рисунок. Бегал выплескивать на пыльный двор замутненную воду. Возвращался с чистой.
– Творите, творите! – остановил лейтенант их, вскочивших с табуреток. – К вечеру-то закончите?
Газетный лист на столе краснел яркой надписью: «Выстрел». Вторую половину листа Кафтанов прикрыл оберточной бумагой, чтобы случайно не закапать газету. Рисунок был почти завершен.
Лейтенант увидел недавний, третьего дня случившийся бой. Тогда на саперов, Кафтанова и Макаревича, обеспечивавших продвижение грузовой колонны, было совершено нападение. Кативший за саперами «бэтээр» вместе со скорострельной зениткой «Шилкой», бившей с заставы, отразили атаку душманов. Простреливая заросший арык, погнали «духов» обратно в «зеленку».
Щукин, не умевший рисовать, наивно восхитился: на рисунке все было понятно, знакомо – фигуры саперов, арык, «бэтээры». Художник Кафтанов был таким же незаменимым и знаменитым на заставе, как и строитель Благих, как и лихой водитель Малютко.
– Заметки готовы? – спросил лейтенант. – Покажите! Макаревич протянул командиру стопку листов, которые исписал своим круглым, школярским почерком.
Лейтенант стал читать. Свою собственную передовую, посвященную празднику армии. Рассказ о недавнем бое – о мужестве саперов и слаженности расчета «Шилки» – лейтенанта Феофанова, командира зенитчиков. Критическую заметку прапорщика Головина о захламленности заставы в районе танковой позиции, а проще говоря – о помойке. Поздравление рядовому Усунбаеву с днем рождения. Все это внимательно перечитал лейтенант, исправив в нескольких местах грамматические ошибки.
– А почему не критикуете повара? – поинтересовался он. – Я же просил! Сколько можно давиться этой жидкой кашей, этой липкой тушенкой! Надо врезать хорошенько Усманову!
– Усманов просил не врезать, товарищ лейтенант, – виновато ответил Макаревич. – Он исправится. Он говорит, плов умеет готовить, баранину умеет, а кашу гречневую не умеет, тушенку не умеет. Он поедет на «Гундиган», спросит, как лучше тушенку готовить.
– А я бы раздолбал Усманова! – недовольно, но не настаивая, сказал лейтенант. Но думал уже о другом.
Назавтра ожидались колонны. И оба газетчика, отложив карандаши и кисти, ступят с миноискателями на дорогу. Пойдут по ней, промеряя, прокалывая пыль, стараясь нащупать в земле твердое тело мины, мимо изувеченной, расколотой техники, по «фугасной яме» – длинной, наполненной пепельной пылью выбоине. Она образовалась в том месте, где подходит к бетонке арык. Здесь минеры врага в годы войны устанавливали бесчисленные фугасы – они-то и содрали бетон с дороги. «Фугасная яма» – самое опасное для водителей место. В эту яму уткнутся завтра щупы саперов. Она и во сне, и наяву, и даже в рисунках преследует их, как неотступное зло.
– Слушай, Кафтанов, – сказал лейтенант, устав вдруг от вида этой серой колдобины, острых кинжальных трасс. – Что ты все про войну да про войну! Нарисовал бы что-нибудь для души! Чтоб взглянуть и вздохнуть свободно!
– А я нарисовал, товарищ лейтенант! – ответил Кафтанов. – Только боялся вам показать. Думал, вы заругаетесь.
Он откинулся от стола. Осторожно сдвинул с листа оберточную бумагу. Щукин увидел, как сочно, свежо светится березовая роща, голубеет с кувшинками озеро, а над озером, распластав белоснежные крылья, летит лебедь. Образ солдатской мечты, стремление на север, прочь от чужой земли, в родные места.
Все трое стояли, смотрели зачарованно на летящую птицу.
У въезда на заставу, у опущенного шлагбаума, стоял часовой в бронежилете и каске. На вышке то в одной, то в другой бойнице за оружейными стволами виднелся наблюдатель – поблескивал из-под каски бинокль. Между каменных стенок под выпуклыми серебристыми баками солдаты играли в футбол. Носились в узком простенке, разгоряченные, потные, гоняли мяч, за неимением камеры набитый жесткими тряпками. Здесь, меж стенок, заслонявших от снайпера, находилось их крохотное футбольное поле. Здесь, в тесноте, уменьшенным составом команд, трое – на трое, они проводили свои матчи.
Лейтенант смотрел, как, пихаясь локтями, крича, тусуя ботинками жесткий мяч, бежит пулеметчик, обводя, отталкивая сердитого минометчика, и тот обиженно, тонко вскрикивая, хватает противника за крепкий локоть. Они сцепились, и мяч, отскочив от стенки, подкатился к ногам лейтенанта. Щукин мгновение раздумывал, не желая мешать игре. Но не удержался. В счастливом азарте кинулся в самую гущу, стал пинать неровный, зашнурованный проволокой мяч, промчался за ним на край поля, где из танковых гильз были выстроены ворота, – ударил ногой. Мяч подлетел, шмякнул в пустой бак, упал на землю, и им тотчас завладел солдат, ловко погнал вдоль стенки. А лейтенант, смущенный, прошел мимо, слушая долго гудевшую от его удара металлическую пустоту.
Он зашел в свое командирское, темное, без окон, жилище, зажег свет, озаривший кирпичные обшарпанные стены, прикрытые над кроватью полотняной тряпицей, кровать, занимавшую две трети жилого пространства, столик в головах, столь малый, что за ним едва удавалось раскрыть книгу. Печка, обмазанная глиной, еще излучала слабое тепло и запах елового дыма. Ниша в стене на зиму забивалась доской. Летом доска убиралась, в проем проникал неяркий, желтоватый свет, а чтобы уличный жар не затекал в комнатушку, в эту нишу укладывался пук верблюжьей колючки, поливался водой. Слабая тяга выпаривала воду, остужала помещение. «Кандагарский кондиционер» – называли колючку жившие здесь офицеры. Она и сейчас была в нише, сухая, черная, забытая с лета.
Щукин сел за столик, застланный аккуратно газетой. Достал тетрадь в клеенчатой обложке. Раскрыл и стал глядеть на исписанные, освещенные лампой страницы. Это был его дневник, который с перерывами, иногда на целые месяцы, он умудрялся вести.
Направляясь в Афганистан почти сразу после училища, он дал себе слово вести дневник. И начал его с первых дней на заставе. Ему казалось важным не только для себя, но и для кого-то еще, желающего лучше понять суть афганских событий, записывать свои состояния, все, что он увидит на этой уникальной, загадочной азиатской войне, на которую привела его офицерская служба. Описывать нравы народа, архитектуру и быт кишлаков, убранство домов и мечетей. Фиксировать местные предания и сказы, свои мысли и чувства, наблюдения о муллах и торговцах, о дружественной армии, о политической жизни страны, в которую он волею обстоятельств вынужден был вмешаться. И первые страницы заполнялись пространными описаниями местной природы, закатов и восходов, кандагарского рынка, расписных грузовиков, размышлениями о несходстве среднерусского климата с климатом этих сухих, горячих земель, где иногда вдруг начинало чувствоваться дыхание близкого океана.
Но постепенно записи становились короче, эмоции и чувства однообразнее. Времени для записей не хватало. Не было продолжительных разговоров и встреч с муллами. Купол кандагарской мечети, мимо которой пролетел «бэтээр», был пробит снарядом. Вопросы продовольствия, боекомплекта, медицинского обслуживания на вверенной ему заставе становились главной его заботой. Ежедневные обстрелы, проводка колонн, отправка в госпиталь раненых – главным содержанием его жизни.