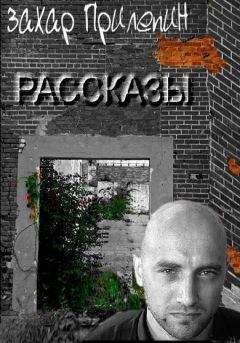На похоронах она стояла молча, без единой слезы, и когда пришла пора бросать землю в могилу, застыла замертво с рыжим комком в руке. Её подождали, а потом пошли, со своими комьями, иные. Земля разбивалась и рассыпалась.
Гном даже не плакал, а как-то хныкал, и плечи подпрыгивали, и грудь его по-прежнему казалась жалкой, как скворечник, а внутри скворечника кто-то гуркал и взмахивал тихими крыльями.
Жена Примата сжимала землю в руке настолько сильно, что она вся выползла меж её пальцев, и только осталась липкость в ладони.
Она так и пришла с этой грязной ладонью на поминки.
Сначала пили молча, потом разговорились, как водится. Я всё смотрел на жену Примата, на окаменевший лоб и твёрдые губы. Не сдержался, подошёл, сел рядом.
— Как ты? — кивнул на живот ей.
Она помолчала. Потом неожиданно погладила меня по руке.
— Ты знаешь, — сказала, — Он ведь меня дурной болезнью заразил. Уже беременную. И лечиться нельзя толком, и заразной нельзя быть. А как его убили — в тот же день всё прошло. Я к врачам сходила, проверилась — ничего нет, как и не было никогда.
Через несколько месяцев дом Примата ограбили — пока вдова ходила в консультацию. Выгребли все деньги, много — смертные выплатили; ещё взяли ключи от машины и прямо из гаража её увезли.
Вдова позвонила мне спустя тря дня после происшествия, попросила приехать.
— Есть какие новости? — спросил я у неё.
Она пожала плечами.
— У меня есть… подозрение, — сказала она поглаживая огромный свой живот, — Поехали съездим к одной женщине? Она ведунья. Ни с кем не встречается давно, говорит, что её правда зло приносит. Но она отцу моему должна, потому встречается со мной.
Я внутренне хмыкнул: какие ещё, Боже ты мой, ведуньи; но мы поехали всё равно — вдове не откажешь.
Дверь открыла приветливая и ясная женщина, совсем не старая, и одетая не в чёрное, и без платка — совсем не такая, как я себе представил: улыбающаяся, зубы белые, в сарафане, красивая.
— Чай будете? — предложила.
— Будем, — сказал я.
Сели за стол, съели по конфете, чай был горячий и ароматный, в пузатых чашках.
— Ищете кого? — спросила ведунья.
— Дом обворовали, — ответила вдова, — И очень всё ладно было сделано, как будто свой кто-то: ничего не искали, а знали, где лежит.
Ведунья кивнула.
— Я вот фотографию принесла, — сказала вдова.
Она достала из сумочки снимок, и я вспомнил тот милый чеченский денёк, когда мы выпивали, и потом свет погас, а после снова включился, и мы сфотографировались, все уже пьяные, толпой, еле влезли на снимок, плечистые, как кони.
— А вот этот и ограбил, — сказала ведунья просто и легким красивым ногтем коснулась лица Гнома.
— Видишь, какой? — добавила она, помолчав, — Так уселся, что кажется выше всех. Смотрите. Он ведь маленький, да? А тут незаметно вовсе, что маленький. Больше мужа твоего кажется, вдовица. Он твой муж? — и указала на Примата. — Мёртвый уже он. Но дети его хорошими будут. Белыми. У тебя двойня.
Я сидел ошарашенный, и даже чайная ложка в руке моей задрожала.
Гном уволился из отряда три месяца назад, и с тех пор его никто не видел.
— Поехали к нему! — чуть ли не выкрикнул я на улице, дрожащий уже от бешенства, сам, наверное, готовый к убийству.
Вдова кивнула равнодушно.
Домик Гнома был в пригороде, мы скоро туда добрались и обнаружили закрытые ставни и замок на двери, такой тяжёлый, какой вешают только уезжая всерьёз и далеко.
Постучали соседям, те подтвердили: да, уехал. Все уехали: и мать, и дочь, и сам.
Мы уселись в машину: я взбудораженный и злой, вдова — спокойная и тихая.
Надо заявление подавать, — горячился я, закуривая, и глядя на дом с такой ненавистью, словно раздумывая — а не сжечь ли его. — Найдут и посадят тварь эту.
— Не надо, — ответила вдова.
— Как не надо? — поперхнулся я.
— Нельзя. Он друг был Серёжке моему. Я не стану.
Я завёл мотор, мы поехали. Вдова держала руки на огромном животе и улыбалась.
Какой случится день недели
Сердце отсутствовало. Счастье — невесомо, и носители его — невесомы. А сердце — тяжелое. У меня не было сердца. И у нее не было сердца, мы оба были бессердечны. Пульсировала невесомость, и теплые наши крови текли в невесомости, беззвучно, неощутимо подрагивая. Все вокруг стало замечательным; и это «все» иногда словно раскачивалось, а иногда замирало, чтобы им насладились. Мы наслаждались. Ничего не могло коснуться настолько, чтобы вызвать какую-либо иную реакцию, кроме хорошего и легкого смеха. Иногда она уходила, а я ждал. Не в силах дожидаться ее, сидя дома, я сокращал время до нашей встречи и расстояние между нами, выходя во двор. Во дворе бегали щенки, четыре щенка. Мы дали им имена: Бровкин — крепкому бродяге веселого нрава; Японка — узкоглазой, хитрой, с рыжиной псинке; Беляк — белесому недоростку, все время пытавшемуся помериться силой с Бровкиным и неизменно терпящему поражение; и, наконец, Гренлан — ее имя выпало неведомо откуда и, как нам показалось, очень подошло этой принцессе с навек жалостливыми глазами, писавшейся от страха или обожания, едва ее окликали. Я сидел на траве в окружении щенков. Бровкин валялся на боку неподалеку и каждый раз, когда я его окликал, бодро кивал мне головой. «Привет, ага, — говорил он. — Здорово, да?» Японка и Беляк мельтешили, ковыряясь носами в траве. Гренлан лежала рядом. Когда я хотел ее погладить, она каждый раз заваливалась на спину и попискивала: весь вид ее говорил, что хоть она и доверяет мне почти бесконечно, открывая свой розовый живот, но все равно ей так жутко, так жутко, что сил нет все это вынести. Я всерьез опасался, что у нее разорвется сердце от страха. «Ну-ну, ты чего, милаха! — говорил я успокаивающе, с интересом рассматривая ее живот и все на нем размещенное. — Смотри-ка ты, тоже девочка!»
Неизвестно, как щенки попали в наш двор. Однажды утром, неразумно счастливый даже во сне, спокойно держащий в ладонях тяжелые, спелые украшения моей любимой, спящей ко мне спиной, я услышал забубенный щенячий лай — словно псята материализовали все неизъяснимое, бродившее во мне, и внятно озвучили мое настроение своими голосами. Впрочем, разбуженный щенячьим гамом, я сначала разозлился — разбудили меня, а ведь могли еще и Марысеньку мою разбудить; но вскоре понял, что щенки лают не просто так, а клянчат еду у прохожих — голоса прохожих я тоже слышал. Как правило, те отругивались: «Да нет ничего, нет, отстаньте! Кыш! Да отстаньте же!»
Я натянул джинсы, валявшиеся где-то на кухне — вечно нас настигало и кружило где ни попадя, по всей квартире, до полного бессилия, и лишь утром, несколько легкомысленно улыбаясь, мы вычисляли свои буйные маршруты по сдвинутым или взъерошенным предметам мебели и прочему вдохновенному беспорядку, — ну вот, натянул джинсы и выбежал на улицу в шлепанцах, которые неведомым образом ассоциировались у меня с моим счастьем, моей любовью и моей замечательной жизнью.
Щенки, не допросившиеся подачки от очередного прохожего, без устали рыскали в траве, ковыряя мелкий сор, отнимая друг у друга щепки, какую-то сохлую кость, который раз переворачивая консервную банку, — и все это, естественно, не могло их насытить. Я свистнул, они бросились ко мне — о, если бы так всю жизнь бежало ко мне мое счастье, с такой остервенелой готовностью. И закружили рядом, неистово ласкаясь, но и обнюхивая мои руки — пожрать-то вынеси, дядя — говорили они всем своим жизнерадостным видом.
— Сейчас, ребятки! — сказал я и вприпрыжку помчал в квартиру, дверь в которую даже не закрыл. Я кинулся к холодильнику, открыл его, совершенно молитвенно встав пред ним на колени. Рукой я теребил и поглаживал Марысины белые трусики, которые подхватил с пола в прихожей, конечно же, нисколько не удивившись, отчего они там лежат. Трусики были мягкими; холодильник — пустым. Мы с Марысенькой не были прожорливы, нет — просто мы никогда не готовили толком ничего, у нас было множество других забот. Мы не желали быть основательными, как борщ, мы жарили крепкие слитки мяса и тут же съедали или, мажась и целуясь, взбивали гоголь-моголь и, опять же, сразу съедали и его. Ничего не было в холодильнике, только яйцо, как заснувший зритель в кинотеатре, посреди пустых кресел с обеих сторон: сверху и снизу. Я открыл морозилку и радостно обнаружил там пакет молока. Отодрал с треском этот пакет с его древней лежанки, бросился на кухню и еще раз обрадовался, найдя муку. Банка с подсолнечным маслом спокойно стояла на окне. «Будут вам блинчики!» Через двадцать минут я наделал десяток разномастных уродов, местами сырых, местами пережаренных, но вполне съедобных — я сам попробовал и остался доволен. Прыгая через две ступени, ощущая рукой жар блинцов, которые накидал в целлофановый пакет, я вылетел на улицу. Пока спускался по лестнице, успел испугаться, что щенки убежали, но, сразу же успокоился, услышав их голоса.