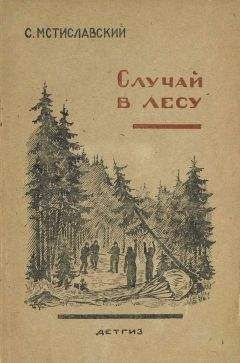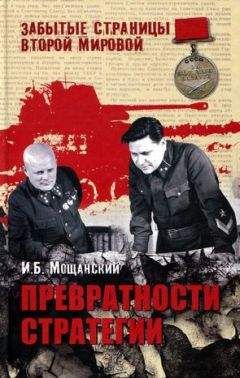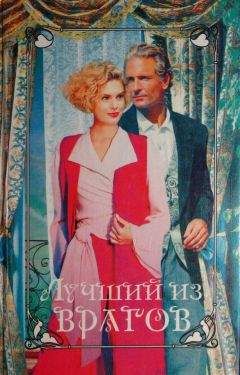Об этом он и спросил старшего лейтенанта Игнатьева, когда они наконец встретились – уже после ужина. Артиллерист, подумав, сказал, что теоретически такой расчет возможен, но насколько он будет соответствовать реальному положению вещей, сказать трудно. И потом, добавил он, что значит «дороже»? Дороже в чем – в человеческих жизнях? В стоимости потерянной техники, истраченных боеприпасов? В таком исчислении, вероятно, затяжная, «осторожная» война обошлась бы дешевле; но есть и другая сторона дела, есть моральный фактор.
– Видите ли, война всегда нравственно убыточна, – добавил Игнатьев, помолчав. – Всякая война, даже самая справедливая.
– Ну почему же? – удивился Дежнев. – Столько героизма кругом! Война, по-моему, как раз в человеке все лучшее раскрывает – в мирное время жил себе, ничем не выделялся, а тут вдруг идет на подвиг.
– Бывает, – согласился Игнатьев. – Но бывает и иначе: нормальный человек – и вдруг оказывается шкурником, изменником, убийцей. Тут все сложнее, война не только лучшее раскрывает в человеке, но и худшее тоже, она раскрывает его целиком, выворачивает наружу все, что есть у него в душе. Отдельно взятый человек может, пройдя испытание фронтом, стать лучше, честнее, научиться товариществу, самопожертвованию, это все так. Но в целом, как социальное явление, война не способствует подъему нравственности, и это тем заметнее, чем дольше она длится. В этом смысле затяжная война дороже.
– Мудрите вы что-то, Пал Митрич, – заметил Дежнев, не столько возражая, сколько просто констатируя необычность хода мысли собеседника. С Игнатьевым общепринятое между офицерами приблизительно равного звания обращение на «ты» почему-то не получалось, и они продолжали церемонно именовать друг друга по батюшке. – У вас-то что новенького за эту неделю – в личном плане?
– В личном? Ну, что в личном плане – письмо получил от сестры, к сожалению, неутешительное. Еще в один детский дом съездила, там Димки тоже нет.
– Найдется, раз эвакуировали, – бодро сказал Дежнев, кривя душой. Он прекрасно понимал, что сам факт эвакуации еще ничего не значит, но надо же как-то поддержать человека, у которого жена умерла от голода, а трехлетний сын потерялся. – Их же по всей стране, небось, разбросало!
– Надеюсь, найдется, – Игнатьев бегло улыбнулся, показывая, что моральную поддержку принимает с благодарностью. – У нас в дивизионной газете работает одна моя довоенная знакомая... Вот у нее совсем худо. Молодая женщина, муж был моим сотрудником по кафедре. Он тоже ушел в ополчение и погиб сразу, под Лугой, а она после этого оставила годовалого ребенка на родителей и тоже пошла в армию. Причем без всякой военной специальности, просто машинисткой при штабе. Так вот, прошлой весной ей сообщили, что они умерли все – и старики, и сын.
– Ни хрена себе, – сказал комбат. – Чем же она думала – в такое время ребенка бросать? И где, в Ленинграде!
– В такие моменты, наверное, люди не думают. Да и кто из ленинградцев представлял себе, чем может обернуться блокада? Мне один путеец, работавший в управлении Октябрьской дороги, рассказал вещь совершенно невероятную: в июле и августе, когда уже были потеряны Прибалтика и Белоруссия, шедшие туда эшелоны с продовольствием для фронта переадресовывались на Ленинград, но потом ленинградские власти потребовали это прекратить, поскольку-де в городе все продовольственные склады переполнены[1]. И эшелоны стали разгружать прямо в прифронтовой полосе, под носом у наступавших немцев.
– Чего ж тут невероятного, это по-нашенски, сколько угодно было таких случаев. Мы когда отступали из Белоруссии, у нас на глазах жгли интендантские склады с обмундированием – там миллионы пар сапог, а бойцы многие шли чуть не босиком, так нет того, чтобы раздать хотя бы по паре, все равно же пропадает, – нет, не положено, есть приказ жечь, значит, жги. Но эта ваша знакомая... Ну, мамаша! Я бы таких...
– Сейчас ее только пожалеть можно.
– Пожалеть... Надо бы, наверное, кто же спорит. Но только у меня для матери, которая ребенка могла бросить, жалости нет и не будет. Вы видели, что с детьми война делает? Мы за эти два года такого насмотрелись, что уже, думается, ничем нас не прошибешь; но что для меня всегда как нож по сердцу, так это детишки в освобожденных местах. Я уж не говорю про убитых или раненых, но просто вот эти – сироты ли, потерявшиеся ли, кто их знает, – забьется такое в щель какую-нибудь, сидит, как зайчонок, дышать боится. Ну, это война виновата, тут ведь сколько убитых, столько и сирот, никуда не денешься. Но чтобы мать сама бросила...
– Вы все-таки упрощаете проблему...
– А чего тут усложнять? Все просто – муж погиб, так она мстить решила. Ребенка бы лучше сберегла, дура, мстителей без нее хватает. Я всех этих баб вообще гнал бы из армии в три шеи... кроме медперсонала, конечно! Про этих ничего не скажу – это дело святое.Хотя опять-таки не понимаю, почему у противника хватает мужиков служить санитарами, а у нас раненых из-под огня девчатам таскать приходится. В ротах сплошь санинструкторши, соплюхи эти несчастные... Да я не им в осуждение, им после войны из чистого золота памятник надо поставить. Я про других говорю, про всех этих штабных бодисток-машинисток, а еще хуже – когда баба за автомат берется или за снайперскую винтовку. Это уж вообще...
– Да, это страшно, – согласился Игнатьев. – Я, кстати, это тоже имел в виду, когда говорил о нравственной убыточности войны.
– Ну, если в этом смысле...
– Конечно, и в этом тоже. Война раздвигает границы допустимого, мы с вами убиваем в каждом бою, хотя и понимаем, что убийство – штука, в общем-то, недопустимая, когда-то даже заповедь особая существовала на этот счет. Но для нас – мужчин, солдат – убийство стало допустимым, естественным делом. После войны, коли будем живы, ни вы, ни я не станем терзаться из-за этого угрызениями совести. Но когда убивает женщина... Пусть она тысячу раз права, речь не об этом... Она, мне думается, убивает что-то в себе, что-то несоизмеримо более важное, чем все требования данного момента. Я, например, не уверен, что женщина, воевавшая с оружием в руках, сможет правильно воспитать своего ребенка. Очень хотел бы ошибиться, но боюсь, что моральные последствия участия женщин в этой войне начнут ощущаться лет через двадцать.
– Да их, может, и не так уж много воюет, – заметил Дежнев. – По правде сказать, я про этих героинь чаще в «Звездочке» читаю, чем вижу их на передовой своими глазами. Так что, Пал Митрич, может, и не будет никаких последствий.
– Дай Бог, как говорится. Хотелось бы верить, что не много... Однако холодает, – Игнатьев остановился (они разговаривали, прогуливаясь взад-вперед по вытоптанному пустому майдану, мимо разрушенной церквушки с наполовину сбитой колоколенкой) и, запрокинув голову, поглядел в темнеющее небо с первыми звездочками, проклюнувшимися над темными очертаниями тополей.
– Октябрь пошел, – сказал Дежнев. – У нас тут в это время ночи уже прохладные.
– Да, ведь вы из этих краев?
– Почти. Туда, чуть южнее, – Дежнев движением головы указал на другую сторону майдана, где небо еще прозрачно розовело медленно гаснущей зарей.
– Может статься, что через Днепр пойдем прямо к вам в гости.
– Это уж как командование...
Визита к крестной Болховитинов побаивался. Как все Ададуевы-Нащокины, нрава старуха была крутого, и мнений своих прятать за обтекаемыми словами не привыкла, резала правду-матку сплеча и наотмашь. Но не пойти было нельзя – давно не видались, в последний свой приезд в Прагу, два года назад, он ее не застал, а на редкие поздравления – с Рождеством, с Пасхой, с днем ангела – она теперь не отвечала. Значит, все-таки осуждает, хотя он тогда в оставленном для нее письме убедительно (как ему казалось) изложил мотивы, побудившие его подписать контракт с Вернике. Как знать, не откажется ли она вообще с ним повидаться.
Нет, не отказалась. Погрузневшая и постаревшая, но все еще сохраняющая осанку выпускницы Смольного института, приняла его в гостиной, тесной от старомодной мебели и бесчисленных фотографий. Снимки – большие и маленькие, в рамках овальных и прямоугольных, серебряных, бархатных, палисандровых – покрывали стены и толпились на ломберном столике, возле которого восседала в креслах Варвара Львовна.
– Хорош, – сказала она, когда Болховитинов, поцеловав ей руку, присел на указанный хозяйкой стул. – Я уж думала, ты в feldgrau[2] ко мне пожалуешь, спасибо, догадался в партикулярное переодеться...
– Зачем же мне переодеваться, – возразил Болховитинов, – отлично знаете, что я не в армии, я ведь писал вам.
– Помилуй Бог, какая радость – он не в армии! Выходит, тевтоны тебе пока на длинном поводке дозволяют порезвиться? Ничего, укоротят, дай срок. Нынче с этими тотальными мобилизациями они всех подчистую в солдаты гонят, неужто тебя оставят.