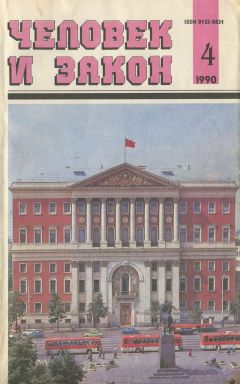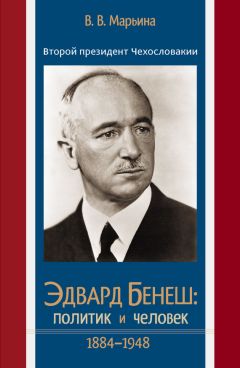— Надо же работать, господа, — нараспев и чуть досадливо протянул Кальтенбруннер. — Нам следует помнить: наша работа направлена как раз на то, чтобы показать австрийцам всех общественных групп, кто истинный виновник их трудностей. И кто, преодолевая неправедное и напрасное сопротивление заблуждающихся, вынужден выводить гау Остмарка из тупика политики беззаконного правления. Как только это произойдет, все станет на свои места, уверяю вас. Недовольных в Австрии не будет… Их просто не должно быть. Тем более имперский закон об ответственности бывших правительств Австрии придает первостепенную значимость нашей работе и обеспечивает ее подлинную законность. Я как юрист утверждаю, что за правовую сторону нашей работы можно быть совершенно спокойным, и никто не сможет ни упрекнуть нас, ни извратить наши действия. — Он пролистал папку, над которой все это время усердно трудился. Вопросительно посмотрел на Лахузена: — Кстати, как вы отработали нарушение Шушнигом договора от тридцать шестого года?
— По договору все участники путча против Дольфуса должны быть отпущены на свободу и отправлены в рейх. Правительство Шушнига нарушило договоренность и казнило борцов. Таким образом, можно обвинить Шушнига в злоупотреблении властью.
— Не складывается, — поморщился Кальтенбруннер. — Участников путча казнили в тридцать пятом, а мы ссылаемся на договор тридцать шестого…
— Не мелочитесь, — махнул рукой Мюллер. — Надо просто обвинить Шушнига, а заодно и Дольфуса в государственной измене. Чего проще? Формулировка общая… Из нее так много следует…
— Не убедительно, — засомневался Кальтенбруннер. — Может быть, лучше обвинить Шушнига в нарушении конституционных норм и свобод? Любое правительство грешит против любой конституции — совершенно в рабочем порядке, даже в интересах дела. Конечно, кроме нашего. Любой закон, любую конституционную статью можно же трактовать как угодно. Я это знаю по адвокатской практике. А теперь работать, работать… Нужно крайне тщательно подготовиться к процессу, ведь на нем не будет такого блестящего обвинителя, как рейхсмаршал Геринг!
Кальтенбруннер хотел что-то еще сказать, но дверь раскрылась, и адъютант ввел в зал офицера СС.
— Группа гитлерюгенда из Мюнхена доставлена к дворцу кардинала Инницера. Из Коричневого дома вам пакет.
Кальтенбруннер взломал сургучные печати. Из конверта на стол посыпались газетные вырезки. Члены комиссии с интересом потянулись к ним. В руках Кальтенбруннера остался лист с грифом личной канцелярии Гиммлера.
— Какой ужас! — вырвалось у Лахузена. — Как это могло попасть в газеты? Я перевожу… «Убийца канцлера Австрии Дольфуса штурмовик Планетта показал на допросе, что тяжело раненный им канцлер обратился к нему с просьбой исполнить его последнюю волю умирающего — пригласить священника. Но умирающему Дольфусу было отказано в причастии и исповеди. Умирающему отказали в причастии…» Дальше и переводить не буду, идут рассуждения о том, каких подонков собирается обелять наша комиссия…
— Это подделка! — возмущенно выкрикнул Кальтенбруннер.
— Увы, нет, — сокрушенно отозвался Лахузен. — Здесь фотография листа из дела, на котором проставлен архивный номер и гриф.
— Какой, можно рассмотреть? — спросил с тревогой Мюллер.
— Можно. Гриф архива министерства внутренних дел Австрии.
— Паршивенько оборачивается дельце, — проговорил Мюллер зловеще.
— Боже мой! — простонал Кальтенбруннер. — Если так всполошились протестанты-англичане, то что скажут в Риме? Папский престол… А мы еще погромили Инницера… Все подряд! Вот осечка, черт побери! Фюрер пока вынужден считаться с мнением Муссолини… Чемберлен известен своей набожностью. Галифакс вообще религиозный фанатик… И Франко… Это конец всему.
— Паршивенько раскручивается дело, — повторил Мюллер. — Кто этот предатель? Кто проторговался?
Все посмотрели на Хайнихеля.
Дворник сидел под большим кустом сирени, на аллее, показавшейся ему уединенной — если об уединенности вообще можно говорить в этом бурлящем котле, Кливдене. «Пожалуй, — думал Дворник, — весна — самое лучшее время года в Лондоне. Хотя бы солнце держится на небе двое суток кряду».
Лондон все меньше нравился профессору Дворнику. Или это было связано с его настроением? Он устал и хотел определенности. Порой думал, что ему следует найти благовидный предлог и отказаться от продолжения своей бесплодной миссии. Время идет, события нагнетаются, просвета не видно, он ничего не сделал, и очевидно, уже сделать не сможет.
Он снова был в Париже. Алексис Леже констатировал, что падение кабинета Блюма все равно следовало ожидать, вяло заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Чехословакию, что господин председатель совета министров Даладье и новый глава Ке д’Орсэ Боннэ стоят на твердых позициях… Но в глазах Леже не было убежденности. Они были пустыми и потерянными, глаза старого секретаря французского МИДа, который гордился, что работал с Брианом и Барту. Куда только подевался его легкий тон! Шутил натужно: «Ах, вы хотите определенности, дорогой профессор? Прежде я думал, что определенность желательна только женщинам».
Натужные шутки и прозрачные намеки. Впрочем, что остается делать Леже, если правительство уже практически не контролирует страну? Даладье кричит, что страну нужно спасать, и называет свое правительство правительством национальной обороны. От кого? Да хотя бы от полковника де ля Рокка, от пронемецких настроений, которые сеют по Парижу провокаторы и агенты Риббентропа, от лозунга «лучше быть побежденным Гитлером, чем победить со Сталиным», если, конечно, Даладье сам втайне не согласен с ним. Что же касается отношений с союзниками… «Из-за чего мы должны воевать?.. Из-за того, что три миллиона чехословацких немцев хотят остаться немцами?!» — это профессор Дворник слышал не где-то на бульваре — в Генеральном штабе Франции!
Дворник снова поехал в Лондон. В Кливден его влекло, словно здесь, именно здесь вот-вот все решится. Казалось, сам воздух усадьбы Асторов полон не только сиреневым духом, но и кипучей благотворной деятельностью. Вот-вот, вот-вот все решится, безотчетно надеялся Дворник, боясь спросить себя: как решится? Ведь люди, отвечая самим себе, обычно не склонны лукавить.
Беатриса Вебб, узнав, что Дворник бывает у Асторов, только улыбнулась: «Каждый выбирает свою дорогу», — и оборвала разговор о карлсбадском съезде, заговорив о портулаке, который очень удобно выращивать под пленкой. Она умыла руки? И преподобный Джонсон больше не предлагает встретиться с советским послом Майским. Может быть, он, Дворник, делает что-то не то?
— Ну как, профессор, вам показались требования Генлейна? — раздалось из-за спины. — Громко звучит: карлсбадская программа! Обратили внимание? Не карловарская, но карлсбадская… Как вы считаете, что станет делать Генлейн, если Бенеш удовлетворит его требования?
Дворник повернул голову — так и есть, этот непонятный журналист о’Брайн.
— Я пока не видел, — неохотно ответил Дворник.
— Обратите внимание, — О’Брайн присел рядом и раскрыл перед Дворником номер «Дейли Мейл», кажется, он сотрудничает в этой газете, — атмосфера съезда судетских немцев — точная копия Нюренбергского партайга. Смею заверить как свидетель. Освещал для газеты.
Дворник тяжело глянул на журналиста, но тот не смутился, в его голосе даже появилось еще больше настойчивости:
— Прочитайте, профессор, восемь пунктов Генлейна. Уверен, они напомнят вам некоторые высказывания за табльдотом в этой усадьбе. Но я не к тому. Меня интересуют перспективы. Кроме того, было бы любопытно обменяться с вами прогнозами.
«Он что-то знает? — настороженно подумал Дворник, берясь за газету. — Что-то серьезное? Неужели? Вывез со съезда? Возможно. Странный человек… Такой же эклектичный, как сам Лондон. Пишет одно, говорит другое…»
«…обеспечение немецкой национальной группе в Чехословакии полного равноправия с чехами, — читал Дворник, — признание этой группы в качестве самоуправляющейся правовой единицы; полное самоуправление созданных специально немецких районов в пределах Чехословакии…» Пятый пункт: «юридическая защита немцев, живущих за пределами специальных районов, шестой — устранение несправедливостей, причиненных судетским немцам с 1918 года, и компенсация за вызванный ими ущерб; седьмой пункт — комплектование администрации немецких районов исключительно из числа немцев; восьмой пункт: предоставление полной свободы судетским немцам исповедовать идеологию национал-социализма».
— Не представляю, в чем ваши немцы неравноправны с вашими чехами, — сказал О’Брайн, убедившись, что профессор дочитал до конца. — Не представляю, какие несправедливости они претерпевают с восемнадцатого года… Ну, это частности. Но скажите, профессор, не напоминает ли все это условия ультиматума, который всего два месяца назад был предъявлен Шушнигу? Еще как! Значит, когда, предположим, правительство Бенеша удовлетворит эту программу, Генлейн захочет войти в кабинет, выдвигая в качестве альтернативы танки вермахта и бомбардировщики люфтваффе? А потом? Когда Бенеш даст ему портфель? У бывшего инструктора лечебной физкультуры хватит наглости попросить Бенеша уступить ему президентское кресло, уверяю вас…