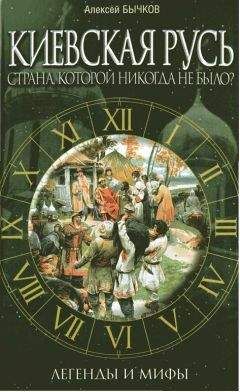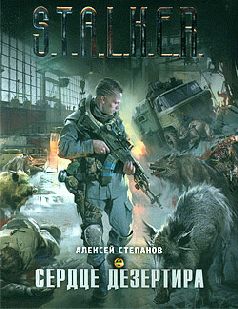— Оставь себе…
— Спасибо…
Десантник, склонившись на сидении, затянулся так сильно, что не выдержал и закашлялся. Вытирая тыльной стороной ладони выступившие на глазах слезы, сказал, словно обращаясь не к старшему лейтенанту, а к кому-то невидимому, глядя мимо офицера:
— Утром письмо подобрал. Недописанное… Выпало у Сережки Трофимова… Когда садились по машинам… Хотел отдать после рейда… Что же теперь делать?
— Надо бы отправить…
— Сережка не успел адрес записать… Думали, когда на дембель поедем, обменяемся…
— Кто-то, наверное, в роте знает… Хотя бы зампо… — Степанов начал и сразу осекся. Исполнявший обязанности замполита Митрофанов тоже где-то здесь, среди обломков. Если осталось от него что…
Подошел Москвин.
— Боекомплект сдетонировал… Поэтому и два взрыва… А в машине еще везли «вэвэ»…
— У них люки были закрыты… — эхом откликнулся Степанов.
— Страховались от шальной пули… Кто знал, что налетят на этот проклятый фугас… Избыточное давление… Хоть бы один люк был открыт, кто-нибудь, может, и спасся бы… Не все же, наверное, погибли от взрыва фугаса…
Перешли на левую обочину. Отброшенная взрывом метров на тридцать пять башня боевой машины из темно-зеленой стала бурой. Нагнувшись, Москвин подобрал на ходу смотровой прибор. «Пригодится», — сказал. «Для своего оптического прицела», — догадался Алексей. Показалось странным, что сапер может думать и о чем-то другом, обыденном. Около башни лежал штык. С желтой керамической рукояткой и в таких же ножнах. Степанов поднял. Чехол, обычно твердый, как камень, рассыпался в песок. А нож был цел. Сунул за голенище сапога: все-таки оружие. Повертел в руках согнутый, искареженный ствол ав-томата, обрывок пулеметной ленты. Патроны тоже деформированные, по-черневшие от взрыва. Оплавленные…
— Брось, — посоветовал Москвин. — Их теперь только в костер…
— Смотрите… — Степанов нашел у самого основания башни свернутую вчетверо открытку. — «Дембельский комплект»…
Кто служил в армии, знает: перед увольнением в запас солдаты всеми правдами и неправдами достают новенькие значки, чтобы надеть их на свои парадные кителя перед отъездом домой. У десантников комплект состоял из «Гвардии», отличника, классного специалиста, «Парашютиста-отличника» и «ВСК». «Новье, нулевой вариант, муха еще не сидела», — гордились друг перед другом. И вот один из таких комплектов на ладони у Алексея. Развернув шуршащую открытку, которая, казалось, вот-вот рассыплется в прах — так ее всю искромсало, — посмотрел на привинченные к ней значки. «Гвардия» перегнута пополам. «Отличник-парашютист» избит осколками до такой степени, что отлетели эмаль, закрутка, цифра. Знак словно перекрученный. А ведь был «нулевой вариант»… Комсомольский весь выгнут. Даже ему, самому маленькому, достался не один осколок. А сколько хозяину?! И где он теперь…
— Сохрани, — сказал майор.
Степанов молча кивнул. Он тут же завернул находку в платок и спрятал на груди. Орицер сохранит значки в качестве самой дорогой реликвии. Когда полетит в отпуск, не станет, как некоторые, дрожать на таможне за дубленки, «Шарп» или «Трайдент» и прочую дребедень. Таких вещей у него не будет. Вывезет из Афганистана только эти значки и дневниковые записи — самое ценное.
Алексей пошел к догоравшим обломкам боевой машины. Он ужаснулся силе взрыва — от БМД осталось одно днище с двигателем. Но и оно было перерезано наискось рваной трещиной. Глядя на пробоину, поймал себя на мысли о том, что никогда не подозревал о такой толщине днища… Ожидал увидеть также огромную воронку. Но и ее не нашел. В том месте, где машина наскочила на фугас, по всей вероятности он был кумулятивным, оказалась еле приметная ямка.
В десятке метров в стороне наткнулся на Володю Митрофанова. Тот лежал сбоку у дороги. Лицо и голова были целыми. Лишь темные густые и волнистые волосы опалены взрывом. Нога оторвана по самый пах. Как будто ее и не было. И ни кровинки вокруг… Алексею показалось, что голова у погибшего стала меньше… Засмотрелся в широко раскрытые глаза… Лицо товарища было спокойным. Отсутствовал даже намек на гримасу боли — смерть наступила мгновенно.
Кто-то остановился за спиной. Алексей обернулся и увидел сапера Федорова. Вместе в карты играли два дня назад. Тогда Ивановский возмущался, что Митрофанов не организовал ни одного собрания. Теперь уж он ничего и никогда не проведет…
Старший лейтенант снял каску и тоже молча уставился в лицо замполита. И вдруг сказал тихо и виновато:
— Леш… Сколько были вместе, а только сейчас заметил, что у него глаза голубые… Эх, Вовка, Вовка…
Степанов вздрогнул. Защемило сердце. Глаза… «А у моей дочки такие пушистые ресницы, что кладу на них спичку, и она держится…» Когда это было? — В феврале семьдесят седьмого…
В тот день предстояло десантирование. Начались ученья. Но разыгралась метель. Она бушевала уже вторые сутки. Командование решало: ждать летную погоду или вывозить полк в район эшелоном. Ученья на несколько часов приостановили. Степанов сидел с Алешкой Медведем и Володей Митрофановым в тесной мрачной комнатке комитета комсомола, насквозь прокуренной, и коротал время. За разговорами вспомнили о детях. Наверное, оттого, что впереди были стылые ночи зимних учений в глубоких белорусских снегах, а эта комната, по-казенному неуютная и темная, еще больше навевала тоску по домашнему очагу. Алексей молчал. У него тогда еще не было Маши. Больше говорили Медведь и Митрофанов. И вот тогда, застенчиво улыбнувшись, Володя сказал: «А у моей дочки такие пушистые ресницы…» Нет уже на свете Медведя, сегодня не стало и Митрофанова…
— Он меня приглашал в свою машину… — вспомнил Степанов. — Говорил: «Хочу, как лучше тебе…»
— Значит, повезло вдвойне, ты же у Лозинского ехал?
— У него, у Сашки…
— Я пойду, Леша… Мои впереди ищут мины… Как бы чего-нибудь не случилось…
И сапер ушел в голову колонны, где десантники уже щупами и приборами исследовали каждый метр дороги…
Подошел Лозинский, молча покачал головой. За ним — два солдата с носилками. Алексею показалось, что это те, на которых он спал прошлую ночь. Впрочем, последнее не имело никакого значения…
— Уложите замполита… — сказал Сашка и отвернулся.
Не сговариваясь, офицеры направились к своей машине. Степанов увидел на дороге припавшие пылью человеческие внутренности, куски мяса… Только теперь обратил внимание: солдаты что-то собирали. Он понял, что…
Свернув с дороги, подошли к сидевшему на камне, опустив голову на грудь, врачу батальона. Его помощь сегодня никому не понадобилась. Бугристое красноватое лицо капитана было усталым и хмурым. Степанов тоже присел. Посмотрев в сторону, увидел лежащий рядом какой-то орган.
— Володя… — толкнул он доктора. — Это сердце?
Тот равнодушно проследил за взглядом старшего лейтенанта и коротко ответил:
— Почка…
— Ты знаешь, Лешка, за Митрофановым смерть шла по пятам, — сказал к чему-то Лозинский.
— Она за каждым здесь ходит, — угюмо проговори врач.
— Нет, с Митрофановым было по-другому. Помните, в первый день «Семьдесят шестой» в гору врезался?
— Тот, что с бензозаправщиком?
— Во-во. В самолете летел полковой фотограф с портфелем Митрофанова. Володя все сокрушался: «Бог с ними, с вещами… Человека жалко. Хороший был парнишка…» И вот теперь его самого… Сначала портфель, потом его…
Степанову стало невыносимо. Он поднялся и опять пошел к взорванной «бээмдэшке». Что-то тянуло туда… Убитых уже снесли в одно место. Здесь распоряжался Туманов.
— Олег… Степанов… Да, что вы все стоите там, идите оттуда, — крикнул Ивановский. — Солдаты справятся без вас…
Алексею запомнился молодой солдат механик-водитель Сережка Трофимов. Его, видно, ударило о панель… Потом отбросило и — затылком о что-то острое. Лицо, вернее то, что можно было назвать им лишь условно, было изуродовано до неузнаваемости…
Степанов после удивлялся, как это никто не сошел с ума от всего увиденного. Неверное, потому, что в мозгах словно существовала заслонка. Она прятала в глубину сознания все жуткое, обнаженное, несовместимое с обычными человеческими понятиями. Сам Алексей словно бы раздвоился. Он остался в Кабуле. Со всеми эмоциями, чувствами, переживаниями. А бесстрастный двойник воспринимал действительность спокойно и безучастно. Словно это было не наяву, а в немом кино. Как будто не с ними, погибшими, курил ночью на краю пшеничного поля. Лишь подумал:
«Живет человек… Царапнет руку, заботливо смажет ранку йодом… Бережет себя, лелеет, холит свое тело… И вдруг ту руку, изуродованную до неузнаваемости, бросить на дорогу, в пыль… Это нам кажется, что будем жить вечно, что есть какое-то табу — не убий… А все ведь предельно просто. Даже ничего осознать не успели… Большие куски собрали, маленькие привалили камнями…»