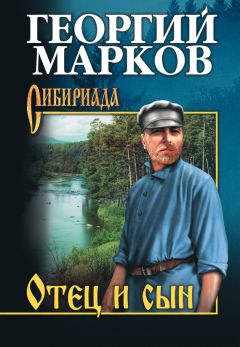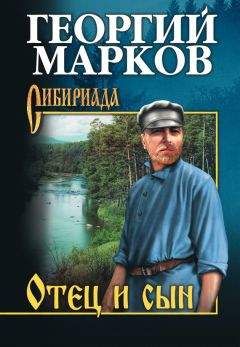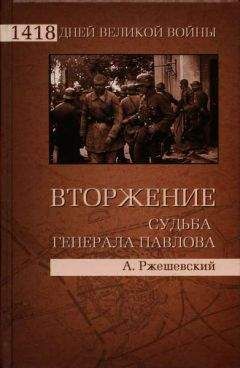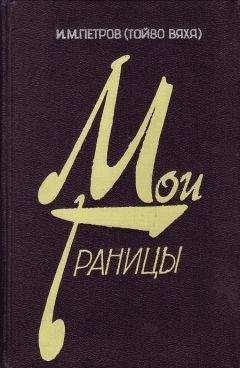Мысли его неслись и неслись. Перед ним кто-то ставил уже боевые задачи: захват населенного пункта, преследование врага, прорыв укрепленной полосы… И мелькали в воображении офицеры и бойцы батальона, приведенные в движение его волей. Вот и проверится, кто на что способен: бой даст точнейший отпечаток свойств каждого…
Двуколка подпрыгивала, Тихонов подскакивал, как мяч, на железных пружинах. Мысли его время от времени менялись, рождались новые кадры, будто начиналась другая часть того же кинофильма.
«Симочкин… Наказать, чтоб берегли могилу. Завтра же прикажу покрасить оградку…»
«…Ну, вот и кончилось, Тихонов, твое многолетнее сидение в сопках. Сколько же ты горьких дней пережил здесь, сколько крепких слов отпустил насчет этой местности, будь она не лихом помянута… А только и то правда: лучшего места для выучки солдат трудно найти».
Ему вспомнился обрывок разговора Петухова с Егоровым. Петухов по обязанности парторга батальона заполнял какие-то списки. Спрашивает Егорова: «Образование?» Тот говорит: «Гражданское — Иркутский государственный университет. Военное — забайкальская солдатская академия». И, посмотрев друг на друга, они залились веселым смехом.
«Забайкальская солдатская академия»… Ну хоть и не академия, но школой можно назвать, и школой хорошей. Недаром фронтовые офицеры сибирякам и дальневосточникам дают высшую аттестацию.
Каков будет его батальон в бою? На фронт с границы мало брали, и батальон почти не обновлялся. Верно, за эти годы уехали на учебу в академию командиры рот Синеоков и Королев, выбыл еще кое-кто. Он знает каждого, но и его тоже знает каждый… Не слишком ли засиделся народ? Нет. Да и когда было засидеться? То жили в траншеях, то строили укрепления, то ловили диверсантов… И так все эти пять лет!.. А шпионы-то! Первый был… как его… Соловей — будь он проклят, второй Дубинчик, явился в качестве военфельдшера, третьего в бригаде актеров накрыли, четвертый с подложным документом от Генерального штаба приехал, проверять боеготовность оружия, пятый был «шалый». Шел с намерением перейти границу, напоролся на секретный пост, хотел скрыться бегством, но Соколков одним выстрелом продырявил обе ноги… А нарушения границы, пограничного режима? Пусть, кому интересно, посмотрят боевой дневник батальона.
Нет, не могли засидеться в такой обстановке люди, и столько ненависти и ожесточения накопили они, что загорится эта ненависть в бою ярким пламенем… А все остальное от тебя, Прохор Андреевич, будет зависеть. Не зря говорится: каков офицер, таковы и солдаты…
— Тырр! — закричал Трубка так громко и так неожиданно, что Тихонов вздрогнул и, вглядываясь в мягкий сумрак июльского вечера, с удивлением увидел родные землянки Ченчальтюя.
— Быстро, Трубка, домчал ты меня, — не то с радостью, не то с сожалением произнес Тихонов и выпрыгнул из двуколки.
Его тотчас же окружили офицеры. Они собрались сюда, хотя никто их не созывал. По рукопожатиям, по взглядам Тихонов понял их нетерпение и, чтоб не мучить, сказал:
— Через полчаса, товарищи, прошу в штаб на совещание. А пока ты мне нужен, Петр Петрович. — Он слегка обнял Буткина, увлекая его в сторону, за землянки.
Восьмое августа на исходе…
Изнурительно медленно тянутся последние минуты. Ночь непроглядно темна. В степи так тихо, что слышно, как тренькают и звенят в воздухе комариные стаи. Где-то далеко-далеко вспыхнет неярким, бордово-желтым светом зарница и, дрожа, загаснет. Степная пичуга, прикорнувшая на ночь в густой траве, по-человечьи вскрикнет спросонья и сразу же замолкнет в страшном испуге.
Степь сомкнулась с небом, а где, в каком месте — не отыскать. Темнота липнет, обволакивает, застилает землю, как дым лесного пожара. Не видно ни танков, ни повозок, ни автомашин, а их вдоль границы — тысячи! Людей еще больше: по степному раздолью залегли батальоны, полки, дивизии.
Последние минуты мира… Третья рота вся в сборе. Нет только командира. Старший лейтенант Егоров — у комбата, где-то тут же неподалеку.
Разговор не вяжется. Все, что думалось об этой войне, — все сказано на митингах: справедливость. Святая справедливость. О ней говорили горячие речи, ее прославляли русским многоголосым «ура», и от переполнивших душу чувств взлетали в небо пилотки и фуражки…
А теперь минуты сокровенного раздумья. Граница рядом. Другой мир рядом. Война рядом. И новая, совсем иная жизнь лежит за недолгими, не утекшими еще в вечность минутами…
Соколков растянулся на траве. Август еще в начале, но по монгольским просторам тянет прохладой. Он подергивает плечом, плотнее прижимается к спине Шлёнкина.
«Буду вместе с ребятами… Буду стоять за них, а они за меня…» — размышляет Соколков, и на душе становится спокойнее, и вспышки чистой, большой радости озаряют его душу.
Не один Соколков разговаривает в эти минуты сам с собой. Темнота скрывает задумчивые лица бойцов.
В кармане гимнастерки Соколкова лежит последнее письмо от Наташи. Ему хочется достать его и еще раз перечитать от начала до конца, но темь такая, что хоть глаз коли. Соколков вспоминает отдельные фразы:
«В университет уже многие вернулись. Приехал без ноги из Берлина доцент Куприянов — командовал полком.
А помнишь Толю Новикова? С химического? Он тоже вернулся. И представь себе — Герой Советского Союза».
Еще бы не знать Тольку Новикова! С первого класса учились вместе. Счастливчик! Герой… И может каждый день видеть Наташу…
«Когда же ты вернешься, Витя? — продолжает вспоминать Соколков фразы из письма. — Посаженный нами с тобой в знак дружбы тополь уже вырос чуть не до крыши, а тебя все нет. Впрочем, не пойми это как отчаяние. Буду ждать тебя еще хоть десять лет…»
Соколков мысленно повторяет эти фразы, потом шепчет их.
— Ты что, молитву бормочешь? — спрашивает Шлёнкин.
— Стихи вспоминаю, — отговаривается Соколков.
— Нашел для стихов время, — с укоризной говорит Шлёнкин.
— А почему нет? Ты что, боишься? — шепчет Соколков.
— Как тебе сказать? Боязни нет, а волнуюсь… Черт ее знает, может быть, нам жить с тобой осталось минуты…
Соколкову хочется сказать: «Ну к чему такие мрачные мысли? Смотри на все бодрее», — но произнести эти слова он не в силах. Нервная дрожь пронизывает и его.
— Все может быть, Терёша, — судорожно позевывая, соглашается Соколков.
Они замолкают, но Соколков перебарывает себя, и вскоре опять слышится его голос:
— А умирать, Терёша, подождем. Наступил и наш черед воевать.
— Да умирать я и не собираюсь. Что ты?!
Итак, договорено обо всем, но Соколков вспоминает, что он забыл сказать Шлёнкину свою наиважнейшую просьбу. Лучше бы о ней умолчать после только что сказанных Шлёнкиным слов о смерти, но удастся ли ее высказать потом? Соколков тянется к уху Шлёнкина, доверительно шепчет:
— Терёша, если меня того… Ты пошли Наташе письмо… в комсомольском билете… Сколько на твоих фосфорических?
Шлёнкин поднимает руку, смотрит на поблескивающие стрелки и цифры:
— Через десять минут…
И снова молчание.
Вдруг слышатся чьи-то торопливые шаги. Они все ближе, ближе. Кажется, что идущий наткнется на бойцов третьей роты. Но вот шаги мгновенно затихают, словно человек провалился сквозь землю, с полминуты слышно лишь, как бренчат на своих однообразных бандурах липкие степные комары.
— Третья, поднимайсь, — коротко приказывает Егоров.
Значит, это он шел, шаркая сапогами о траву.
Все вскакивают, надевают скатки, вещевые мешки, винтовки, ощупывают привычными движениями рук затворы. Рота строится. В темноте не так просто найти свое место в строю, но солдат плечом чует товарища. Рота стоит в ожидании новой команды.
Расчерчивая черное небо узкими полосками, то ало-красными, то фиолетовыми, то зелеными, взлетают ракеты. Вслед за этим, где-то далеко-далеко, словно соперничая с зарницей, вспыхивает короткое заревцо. Оно вспыхивает два-три раза, затем начинает мигать ежесекундно.
— Артиллерия приступила к делу.
— Далеко, даже звука не слышно, — замечают в строю.
Рота стоит без движения еще несколько минут. Ах, как мучительны эти минуты — скорее бы в бой! И тишина! Она угнетает. Ведь где-то уже воюют! В чем дело? Почему нет команды двигаться?
Со свистом взлетает еще одна ракета — красная, с искрящимся продолговатым хвостом. Ракета не успевает еще лопнуть и рассыпаться, как степь оглашается ревом моторов.
Рев танков доносится откуда-то слева. До них, должно быть, тоже не близко, но сколько же их, если под ними дрожит земля и беспокойно колышется воздух! Рев все нарастает, и Егорову приходится кричать во все горло:
— Рота, за мной, шагом марш!
Команду слышат немногие, но опять выручает солдатское чувство плеча: товарищ тронулся, не отставай от него.