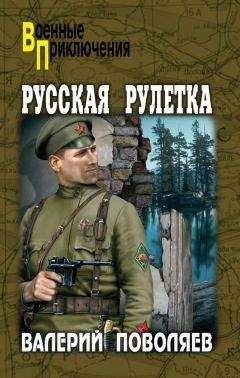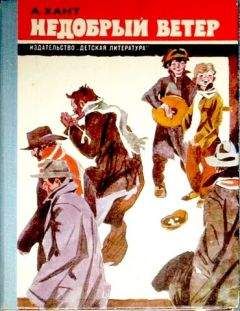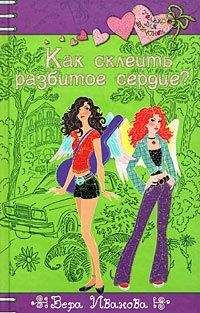Дальше появится Ольга — в китайском, тщательно отутюженном длинном халате, который будет покорным шлейфом тянуться за ней, ухоженная, прибранная и желанная. Такая желанная, что Чуриллову даже сейчас захотелось, чтобы у него на память осталась какая-нибудь вещица от Ольги, — всё это станет родным, будет отдавать ему тепло, помогать в одолении слякоти, осенних дождей, что часто льют в душе.
— Какой сегодня день? — сухо спросил Чуриллов, позвонив в дверь указанной квартиры.
— Полноте, полноте, — махнула рукой мгновенно появившаяся Ольга, — проходите! Раз я тут, то никаких паролей. Ясно, голубчик?
Чуриллов подумал, что Ольга, может быть, такая же жертва, как и он — втянули женщину в омут, набросили на шею верёвку, к верёвке привязали камень — и вниз. В нём возникла злость. Чуриллов пожалел, что у него нет с собою оружия, иначе бы он поставил Шведова к барьеру.
— У вас наган в квартире есть? — быстро спросил он у Ольги.
— А в чём дело? — неожиданно рассмеялась Ольга, глаза у неё сделались совсем девчоночьими, лукавыми, кажется она раскусила Чуриллова — на подбородке возникла ямочка.
— Я вызову Шведова на дуэль.
— Благородный порыв юности. Но вы же, Олег, не юноша.
— Шведов тоже не юноша, мы одинаково стары и достойны друг друга. Бой будет честным.
— Он уложит вас, Олег, через три секунды после того, как вы вскинете пистолет. Шведов — слепой стрелок. Стреляет в звук, в тень, в свет, в пятно, в муху — и всегда попадает.
Чуриллову важно было слышать её голос, низкий, нежный, принадлежащий теперь только ему одному — и никаких шведовых, раз он пошёл на жертву, — важны были не слова, не то, что она говорит, а именно голос, его окраска, тон, нежность. Тяжёлая цепкая уздечка, обжимавшая сердце, ослабла, сделалась легче, просторнее. А когда просторно, то хорошо думается.
Глядишь, и слова возвратятся, и тогда Чуриллов будет снова писать стихи.
— Есть особый род дуэли, — усмехнувшись, сказал он, — русская рулетка. Тут не обязательно уметь убить муху в глаз. Это дуэль честных людей с равными возможностями.
— Знаю, — Ольга, успокаивая Чуриллова, снова улыбнулась, и пороховой кокон, в котором он находился, распался, лохмотья сползли к ногам. К Чуриллову снова возвратилось всё, что у него было, — полузабытое детство с солнцем и строгими прекрасными улицами, уроки пения в гимназии и рисовальный кружок, который посещали чинные привлекательные курсистки, первый выход в море и купание в пузырчатой адриатической воде. Г-господа, неужели всё это было? Вернётся ли когда-нибудь? — Знаю, — снова произнесла Ольга.
— Скажите, Ольга, то, что я делаю, называется шпионажем, да? Ведь за это военному человеку — пуля.
— Разве работа во имя спасения России — шпионаж? Когда, в какие века это так называлось, Олег? И если уж говорить о пределе, о черте, которую всем нам надлежит преступить, то пуля ради России — это прекрасно. Потомки опустятся перед нами на колени.
— Вы видели когда-нибудь, как пуля бьёт человека?
— Нет.
— Это страшно, Ольга! Человека выворачивает наизнанку, словно червя, перекручивает, из глотки лезет хрип, кровь, еда… Красиво люди умирают только на сцене.
— Смерть никому не дано сделать прекрасной. После того, что вы сказали… вы бы стали стреляться со Шведовым?
— Конечно.
— За что вы его не любите?
— А что вы мне предлагаете его полюбить? За какие качества? За прекраснейшие глаза, фанерные уши и то, что он умеет хорошо носить на голове фуражку? Голова, к слову, для другого… И уши не только для того, чтобы шляпа не съезжала на плечи.
— Да нет у него шляпы!
— Я его за то не люблю, что вы оказались рядом с ним.
— Не ревнуйте, Олег!
— Это не ревность. Это другое. Похуже ревности.
— Всё равно — ревность! Даже то, что похуже ревности — всё равно ревность, ревность! — Ольга, превращаясь в девчонку, капризно топнула ногой по полу.
Вот оно, полузабытое милое прошлое — оно возвращается. Олегу захотелось поцеловать её руку… Нет, не руку, поцеловать саму Ольгу. В голове даже звон возник, запела какая-то неведомая букашка, а может, не букашка — сверчок, лицо его посветлело, разгладилось, и он сделал шаг к Ольге.
Ольга, испугавшись чего-то, отшагнула от него в глубину прихожей. На лице Чуриллова ничего не изменилось, не дрогнуло, он наклонился к Ольгиной руке, взял её и прижал сухие тёплые губы к тонким, пахнущим чистотой пальцам.
— Извините меня, Ольга, я был очень невежлив. Я даже не поздоровался с вами. Здравствуйте, Ольга!
— Здравствуйте, Олег! — голос её был тёплый и по-прежнему нежный, но держалась она от него на расстоянии. Словно бы между ними что-то произошло.
Он подумал, что наверняка в этой квартире где-нибудь в тёмном закутке сидит Шведов и подслушивает их разговор, смеётся над Чурилловым, называя его про себя «манной кашей» или «гороховой шрапнелью», иначе зачем Ольге вести себя так? И Чуриллову сделалось горько. Он понял, что Ольгу ему уже не вернуть.
Коротко, экономя слова, Чуриллов рассказал, что видел в Кронштадте, перечислил названия кораблей, стоявших в порту, поделился соображениями об их готовности и откланялся. Даже не остался на чай.
— Олег, что произошло? — спросила на прощание Ольга.
— Ничего!
— Тогда почему такая перемена?
— Мне надо срочно возвращаться на службу. А потом… потом, вы не знаете, я ведь женат. У меня жена такая же дура, как и я, — пишет стихи.
— Мы с вами ещё увидимся, Олег? — Ольга то ли не расслышала, то ли специально пропустила сообщение насчёт жены.
— Да, — твёрдо сказал Чуриллов. Он знал, что ещё увидится с Ольгой, знал, как себя поведёт, знал, зачем ему это нужно.
В нём окончательно утвердилась мысль: во всей этой игре всё-таки не Шведов главный, а Ольга, наверное, главнее его.
Лицо его утяжелилось — всё произошло мгновенно. Чуриллов, как всякий поэт, обладал особенностью реагировать на малую боль и неприметную радость, на сладкое и горькое — стоило одного или другого добавить, в нём что-то моментально возникало, срабатывал заранее заложенный заряд. Чуриллов реагировал на всякий всплеск — и это не замедлило у него отразиться в лице, — подглазья набрякли водой, в висках забились ошпаренные чем-то нехорошим жилы: Чуриллов постарел в несколько секунд.
Но и Ольга тоже изменилась. Попрощавшись с Чурилловым, она ослабила в себе сцеп, позволявший ей быть юной, на лице снова возникли морщинки, целая сеть, и, видать, рано это сделала: Чуриллов ещё не ушёл, он молча стоял в прихожей. Собрать саму себя вновь Ольге не удалось, и она вдруг сделалась испуганной стареющей женщиной, слабой, не ведающей, что делает, и Чуриллов не сдержался, резким движением прижал её к себе, ощутил, какие у Ольги хрупкие и немощные лопатки, какая непрочная спина, как слабо бьётся её уставшее за годы сердце, — он услышал, а точнее, ощутил далёкий живой стук, и грудь его разорвало от жалости.
У каждого из нас есть одна женщина, которой мы принадлежим без остатка: у одного это жена, у другого любовница, у третьего просто гимназическая подруга, у четвёртого — недоступная, как богиня, соседка; верность этим женщинам мы храним все годы, поскольку именно эти женщины позволяют чувствовать и понимать нам, что мы — мужчины, личности, пусть даже примитивные — на то, чтобы носить брюки и драться, особого ума не надо. У Чуриллова такой женщиной, похоже, была Ольга. Чуриллов это понимал, но понимает ли сама Ольга?
Собственно, а почему должно быть совмещение привязанностей у мужчины и женщины? То, что у Чуриллова этой единственной (хоть дари фотокарточку с надписью «Моей любезной, единственной, любимой») является Ольга, ещё не означает, что у Ольги таким мужчиной может быть Чуриллов: в жизни всегда есть место перекосам, на перекосах люди и живут. Есть же у неё Шведов…
Иначе бы что другое могло занести Чуриллова в полумифическую, совсем, как ему казалось, не представляющую угрозы для общества организацию, от названия которой попахивает баней или конторкой товарищества, выпускающего пуговицы для кальсон, — ПБО? В крайнем случае у человека, узнавшего о существовании такой организации, заболит живот, что вполне обычно для голодушных условий.
О Шведове не хотелось думать. Чуриллов теперь уже не верил, что таким единственным человеком у Ольги, отдушиной, спасением от всех бед, защитой может стать Шведов. Нет и ещё раз нет. Чуриллов резко откинулся назад, отрываясь от Ольги, повернулся на каблуках и сделал несколько чётких печатанных шагов к двери.
Ушёл он не оглядываясь. Ольга не поверила тому, что видела: Чуриллов никогда прежде не был таким.
По натуре своей младший Таганцев был человеком мягким, уравновешенным, лицо его обычно украшала тихая доброжелательная улыбка, про таких, как правило, говорят: муху не обидит… Не способен…