И пусть она катится в преисподнюю, эта вокзальная буфетчица, эта бестия! Для чего она приходила?
Непонятно.
Он решил ни с кем не советоваться, пока сам не додумается. Не тревожить Лену и Зину, им хватает. Шевельнулась мысль — с Таней хорошо бы потолковать, она умная и резкая, даже дерзкая, не прямо, конечно, толковать, а как?
Непонятно.
Да к тому же Таня и не заходила, поддерживала с домом связь через Мишука, присылала его после школы, что ни день.
Как-то Михаил Авдеевич не выдержал, спросил у Зины в вечерней тишине комнаты, когда небо за окном цвело багровыми отблесками заката:
— Зин, а помнишь, Коська картины рисовал? Был бы сейчас у нас художник Бадейкин!
Он ждал возмущения. Протеста, которым жила его душа. Хотя бы горячности, той, что Зине не занимать. Но она простодушно улыбнулась:
— А что? Костя мечтал стать художником!
Так легко и просто сказала, как будто в шутку.
— Зря он, может, тогда у печи, чугун плавит?
И так же легко и просто Зина поразилась:
— Он династию продолжает! Он доволен! Очень, по-моему.
— А говоришь — мечтал!
— Мало ли у кого какие мечты? Был тогда мальчишкой, а сейчас... взрослый. У взрослых иная жизнь.
— Щитовидку надо лечить, — пробурчал отец, и Зина засмеялась.
— Мечты — далекое прошлое, — только и сказала она вслух, пришивая пуговицу к его пижаме.
А он смотрел, как угасали в небе следы солнца. Всю ночь снилась война. Горновых не взяли на фронт, так война сама подползла к заводу, и впервые ощутимо выяснилось, что завод все же не корабль, он не мог сняться с якоря и уплыть от бомб и снарядов, которые война обвалила на него с неба, и вот уже цеха застыли скелетами без окон, как без глаз, а кауперы обнялись разломанными руками труб. Весь завод стоял, как убитый.
Но только — «как».
Люди чинили все, что можно и нельзя, казалось, было починить. Раненые механизмы оживали и работали с людским упорством, как будто в них переселялась душа тех, чьи руки их касались. И чугун тек из лёток до того неотвратимого часа...
Они его отдаляли, этот час, как могли, и в дожде и грязи рыли на южной окраине своего города окопы. Лена, молодая и сильная, даже после родов, с которых и года не минуло, ходила в окопы вместе со всеми. В тот вечер, на кровавом закате, им дали винтовки. И мужчинам, и женщинам. Многие заводские получали винтовки семьями.
А дома оставалась Зина с бессловесным Коськой на руках, сидела и, прижимая его к себе, ждала взрослых.
К утру дом на Сиреневой стал уже не их домом, они отступали с армией из города и молчали, сходя с ума.
У железнодорожного переезда, чадя в небо и прибавляя копоти к тучам, горел элеватор. Рядом, завитые черным дымом и огнем, пылали бензиновые цистерны, а сквозь этот огонь к ним прорывались военные грузовики, чтобы заправиться. Попытка была единственной из всех возможных. Иногда удавалось, а чаше взрывались вместе с цистернами.
— Зиночка!
Будто сейчас услышал он голос Лены. Это был первый крик, вырвавшийся из нее за два дня, а он так и не мог позвать дочь, даже прошептать ее имя, хотя тоже увидел. Она стояла с Коськой на руках, прижавшись лицом к полосатому столбу с задранным шлагбаумом, стараясь не видеть всего, что творилось вокруг. Какой-то солдат, рассказывала она позже, поставил ее тут. Если она и могла где увидеть своих, то скорей всего на переезде. Не ошибся, вечная ему благодарность. Услышав мать и вскинув растрепанную голову, Зина принялась озираться так, точно ей почудилось. Коська заревел ревмя. Видно, еще больней она прижала его к себе. Михаил Авдеевич остановился, его толкали со всех сторон, а он стоял, остолбенев, и раньше, чем он справился с собой, Лена пробилась к столбу сквозь безостановочный людской поток.
И тогда Зина завизжала:
— А папа? Где папа?
Сейчас старик лежал с открытыми глазами и видел грязное лицо девочки. Не надо было напрягать воображение... Это с того часа, который простояла она на переезде, Зина, бывает, из-за пустяков не в силах удержать слез или крика. Как дорого он заплатил бы за одну ее улыбку, полную спокойной и глубокой радости, но — кому? Кто вернет ей эту радость? Жизнь крута...
А тут еще... Без тебя хватило бы забот, сын. Ты придешь сегодня? Надо же спросить про эту вокзальную буфетчицу, выяснить! Но и Костя не приходил. По словам Афона, Костя вскопал землю под всеми яблонями, удобрил, обрезал их, а стволы побелил. Вовсю работает на участке.
— Вот те крест!
Афон широко перекрестился, рассказывая, и это заставило засомневаться, что он говорит правду.
Утром горновой сказал, что ему лучше, что хочет встать, и попросил у матери рубашку. На завод! Послушать заводское дыхание, то громоподобное, то похожее на долгие сыпучие шорохи, они с сыном про любой звук на заводском дворе могли сказать, что это такое.
Рубашку-то мать дала, но пойти придется, пожалуй, завтра. Помогая ему застегнуть пуговицу на горле, Лена спросила, что за барышня приходила с завода.
— По-твоему, ко мне барышня не может прийти? — засмеялся он.
Нет, не скажет он, когда уж невозможно будет, тогда...
Ну, и получалось, что не оставалось у него никого, кроме Мишука. Жди, когда прибежит из школы. Однако стрелки на всех часах уже перешли «зарубку», а Мишука все не было. Ты-то куда пропал, тезка, спрашивал Михаил Авдеевич, забыл, что дед тут ждет не дождется?
Побродил он по дому минут пятнадцать, ну, двадцать, ну, не больше чем полчаса, и уж сколько прошло, как лег, а в груди все давило и резало, не вздохнешь. Иногда самые малые движения сопровождались небывалой резью, кинжальной, как врач говорил, употребляя слово, скорее похожее на разбойничье, чем научное. Н-да, не зря учили их, врачей, понимают что-то. Этот, в сущности, добрый толстяк не ошибся, предупреждая, что боль может поселиться в солнечном сплетении как дома.
Повторять всем, что нет никакой боли, она и уберется восвояси. А что еще делать?
В спальню — который уж раз за этот день — зашла Лена, спросила, чего он ворочается, как на горячем.
— Сесть хочу. Помоги.
Она подложила подушку сзади. Утверждают же те ученые, которые помудрее, что организм сам знает, что ему надо, сам подсказывает, а то и требует. Сел, и сразу задышалось легче.
Лена добродушно поворчала, что он никак не найдет себе спокоя, а он ответил — и не хочет. Имеет хоть на это право? Отвечал он весело, и она улыбнулась. И спросила, сочувствуя:
— Лежать надоело?
— Дышать.
— Дышать? — тут же испугалась она. — Не болтай!
— Сколько сил на это тратишь, оказывается, всю жизнь, а не замечаешь! Если посчитать... Пригодились бы еще на что другое силенки.
— Отдыхай.
— Наверно, выдышал весь свой воздух. Надо узнать у Мишука, сколько на каждого человека полагается в атмосфере, какая норма? Длинную дорогу пробежал...
Лена присела на постель, в его ногах, пообещала:
— Встанешь, мы с тобой поедем еще. Куда-нибудь, где воздуха сколько хочешь!
— В Ялту.
— Лучше в деревню.
— Вот пойду в профком, запишу Зину и нас в Ялту. Там — море, Лена. Знаешь, я мальчишкой метил в моряки. Едва грамоту одолел, добрые люди помогли, книжку прочел про море. А до моря так и не добрался... Хоть посмотреть!
— А говоришь, длинную дорогу пробежал. Короткую.
— Короткую, Лена.
Звонок в дверь пе дал им поговорить вдосталь. Михаил Авдеевич забеспокоился, что это Мишук, и в самом деле оказался Мишук, голос слышался, а сам все еще не появлялся, возился с чем-то. А голоса долетали:
— Что это ты притащил, Мишук?
— Мама дала.
— А что?
— Папины картины.
— Неужели сохранились? Где?
— На антресолях.
— Батюшки! Это с каких же пор?
— Краски не портятся.
Действительно, все постарело на много лет, дома, деревья. Постарело даже солнце, светившее с неба и тогда, и сейчас, постарели и картины, если принимать их за вещи, но все так же жили краски, таинственно наполненные чем-то своим, чего он вроде и не замечал раньше. Не видел ни в картинах, сделанных, или, как выражалась Таня, написанных, Костей, ни в самой природе, куски которой поселились на Костиных картинах прочно и необычно.
Таня пришла вслед за Мишуком, условились они, должно, и сейчас бабушка кормила Мишука, а Таня сидела в спальне, правда вскакивая иногда и прохаживаясь, и втолковывала старому горновому, во что он без нее, наверно, и не вгляделся бы.
— Какое-то здесь бунтарство! Не могу другого слова подобрать. И не хочу. Удивительно! Он давно это написал?
— Мальчишкой. Как Мишук был, наверно. Ну, чуть-чуть постарше.
Куст всегда и казался ему мальчишеской работой, неестественной, а значит, неумелой.
Он сердился, по со словами Тани против воли менялось давнее представление об этом кусте, полыхавшем на траве огнем, неожиданно менялся приговор ему.
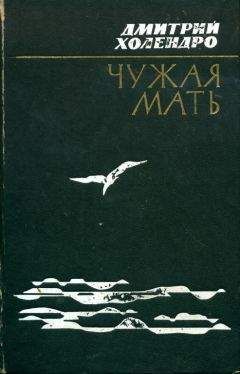

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/262305/262305.jpg)


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149595/149595.jpg)