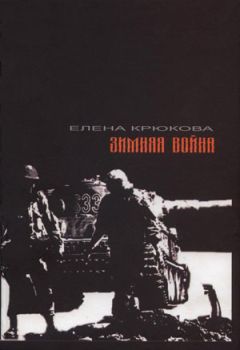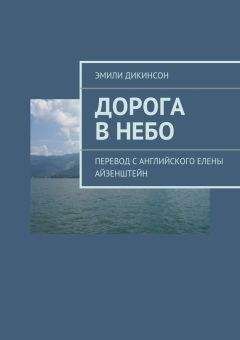— Ты не уйдешь от меня, — прохрипел Исупов. — Ты сама придешь ко мне. Ведь я твой первый. Ведь тебе со мной…
Она плюнула ему в окровавленное, страшное лицо. Спрыгнула с дивана. Наступила босой ногой на камень, закатившийся в щель в полу.
«Только подойди попробуй, только подойди,» — говорили ее из серых ставшие черными глаза: так расширились зрачки, заняв все озеро радужки.
Старик проснулся, закряхтел, заворочался. Разлепил щелки глаз. Поглядел на происходящее, лежа, из-под руки, как глядят на яркий огонь. Расклеил и губы — для хриплой, нелепой речи:
— А нимало не знай, милай, сто Зимняя Война насялася потомуси, в мине стреляй, а я важная полководеса, я Война знай холосо, умея стреляй, воин поход сильна выступай!.. В мине стреляй — рана зарастай — я солдата Война насинай… Так она, Война, и насинай… Так и насинай…
Под звездами никогда не накуришь. Хоть всю жизнь кури. Окурками была усеяна уже вся красная ночная земля у них под ногами. Что это я с тобой разговорился, Юргенс. Я простой солдат, Исупов, и зачем ты болтаешь со мной. У тебя свои друзьяки, офицеры есть. А я потом в переделку попал. Старикашка встал, ногой подпол открыл. Я в дыру улетел. Матерюсь. Стреляю вверх. Весь пол в хибаре продырявил. Вылез — никого нет. Я во зле все там порушил, погромил. Все в щепки разнес. Кровь долго останавливал. Носовым платком прижимал, обшлагами, выдернул из-за разбитого стекла вату, затыкал. Лилась, как заколдованная. Льет и льет. Как из ведра, а не из щеки. Нерв она мне, что ли, порезала какой, только меня перекосило, и я ни говорить, ни жрать еще долго не мог. Мог только курить. Так куревом и питался. Врач в лазарете хмыкал: больше вожжайтесь с бабами, полковник. Ужо они вас. Видишь, Юргенс, шрам плохо зарос. Коряво. И крест кривой. Вроде как андреевский. Мне с таким крестом из сухопутных войск на флот пора подаваться. Какой бы я был адмирал красивый. Как Колчак?.. Что ты. Бери выше. Кто сейчас в Ставке на Охотском море?.. То-то. Такой масштаб.
Что было после?.. А разве что-то было?.. Ну да, было. Как же не было. Китайская засада. Под боком у меня капитан Серебряков. Нас вместе и связали. Расстреливать не стали. Кто ж таких нашпигованных сведеньями, как колбаса — салом, «языков» убивает. Пытали — это да. Тебя ведь, Юргенс, не пытали. Есть болевой порог у человека. Он у каждого свой. Если тебе выкрутить руку, ты, может, и не заорешь. И тайну не выдашь. А я… стыд, но я боли боюсь. Смертельно боюсь боли. Уж лучше смерть. Нас в змеиную яму сбросили. И собаки лают вокруг, собаки. Сам видишь, Юргенс, сколько собак на Войне. Собаки на Войне нужны. И солдатам, и офицерью. И ездовые — на Севере, когда снега все вокруг укроют, ничего в мире нет, кроме снегов. И почтовые. И санитары. И повозки с орудьями тянуть, когда лошади падут или корму им не станет. Собаки по краю ямы рассядутся, сперва полают, потом морды поднимут и на степную раскосую Луну воют. Воют, душу вынимают, — а кругом снег, китайская лютая степь, ветер насквозь, через ребра в небо свистит. И мы в яме. И змеи с нами. Одна укусила Серебрякова. Он хворал. Жар поднялся… он метался, бредил. Я отсосал ему кровь из ранки. Отплевал яд. Я плевал, собаки выли. Ихний, китайский солдатик-надзиратель наверху, с собаками, сидит, верующий такой был, сильно верующий, все время тамошние мантры читал, вынимал из кармана медную статуэточку божества и разговаривал с ним. А я… вырыл ногтями такие углубленья в стенах… чтобы змеи не допрыгнули, не доползли… и мы в них, в земляных вмятинах, спали. Серебряков хворал долго… Я научился змей прижимать рогатиной. Я мог бы работать хорошим змееловом. Тоже добыча денег. А мальчонка этот, китайский солдатик… ловкий такой!.. он нас жалел… однажды спустил нам туда, в яму, четырехгранные ножи, чтоб мы ими змей поубивали, и мы дрались, да, Юргенс, дрались со змеями, — человек всегда дерется со змеями… Человек дерется с самим собой, Исупов. И с Дьяволом внутри себя. Э, все сказки! Человек просто дерется, и все. Мужик не может не драться. Мужику драться на роду написано. Это — в крови.
И что ты думаешь?.. Эта бестия приволоклась. Появилась — не запылилась. Ночь, холод, гимнастерка от мороза не защищает; нас до костей пробирает, трясет. И хруст под чьими-то шагами. И собаки сначала залаяли, как оглашенные, потом замолкли — будто онемели. И ее лицо над ямой. Волосы со щек свешиваются. Клянусь, Юргенс… дай еще закурить… я думал — ведьма. Призрак: вверху, над ямой, звезды горят ледяные, и в иглистых искрах созвездий — женское лицо, волосья вниз висят, мотаются на ветру. А метель поднялась!.. пурга… Что она с тем солдатиком, надсмотрщиком, сделала?.. где был он?.. мы знали, что, помимо солдатика, еще есть охрана… Она глядит в яму, молчит. Потом размахнулась и пакет вниз бросила. Я развернул бумажку… руки мои тряслись — эх и холодно было… а мы ж без рукавиц… Порошок. Там был яд… ядовитый порошок… из яда тех же змей и выделывали его китайцы… я спросил взглядом ее: яд?.. — и она мне ответила: яд, — и мы, развернув бумажку, поняли, что это яд, такой сильный запах исходил от него, несносимый, — это чтоб мы охрану оставшуюся отравили, и в запас оставили, ведь яд на Востоке — сам знаешь… как полотенце в дорожный чемодан для Западного человечка… Пошаталась еще она над нами на краю ямы. Поулыбалась нам. Все молча. Ничего не проронила. Только на прощанье провела по своей щеке пальцами — показала: крест. Помни крест. Помни меня.
И ее голова исчезла, как не бывало.
Вы выбрались из ямы?..
А ты как считаешь. Ведь и четырехгранные ножи у нас тоже пазуху холодили. Не забывай об этом.
Молчанье и рассвет. В беспощадном свете утра он видит морщинки под глазами спящей Воспителлы, трогает их кончиками пальцев.
— Спи, моя радость, усни, — бормочет он, улыбается. — Ты богата, как Палома Пикассо, но спаленка у тебя все равно бедняцкая, как у всех у нас, у бедных россиян — ты так сызмальства привыкла, человек живет хорошо в том пространстве, к коему сызмальства привык. И квартира у тебя — коммуналка, как у тысяч, у миллионов в Армагеддоне, во всей безумной России. А там, в гостиной… гости гудят, как мухи в кулаке. Ждут… Ну, спи ты, спи. — Вздох сотряс его всего, до основанья. — Спи. Мы свидимся… там. В ночной стране. В ночном небесном городе, любимом, диком моем. — Уродливо сморщившись, он бесслезно заплакал, зарываясь лицом в ее плечо, целуя ее грудь, живот. — Я не заставлю твоих гостей долго ждать. Это игра. Есть условья игры. И есть железные правила игры. Неотвратимые. Что бы там ни было. Человек всегда ищет лазейку. А х. й тебе, человек. Нет тебе лазейки. Нет.
Он резко оторвался от теплого, сладко спящего женского тела. Встал. Как слепой, наощупь, шатаясь, побрел в ванную комнату. Долго искал в коммунальном, темном, узком коридоре, похожем на ущелье; искал, совался в разные двери, толкнул дверь сортира, отшатнулся, пошел обратно в спальню, будто передумал, — нет, ты трус, Лех, трус и только; опять повернулся, нашел ванную, тяжело ввалился в нее. Огляделся, зажег свет. Захрипел:
— О!.. Гляди-ка. Как у меня. Совсем как у меня. Я в такой же квартирешке в Армагеддоне жил когда-то… и ванная у меня была точно такая же… Палома… мать твою!..
Презрительно насвистывая сквозь зубы модную песенку, он придирчиво оглядел длинные битые оконные стекла вдоль залитых ржавыми потеками стен, картонную магазинную тару, посылочные ящики, скрученный электропровод, гигантский, как мертвая анаконда, — а вот и неизменные пустые винные, водочные бутылки всех армагеддонских коммуналок, очень это кстати. А вот и ванна. Он закинул ногу, оказался мигом в ванне — он же был весь голый, из постели женской прыг, ему и карты в руки. Шумно пустил душ. Затряс головой, отфыркивая бьющую в лицо воду. Нашарил на полу пустую бутыль из-под «Наполеона», разбил ее о край ванны, выбрал из осколков дотошно самый острый — и деловито, быстро, совсем буднично, даже поспешно, будто совершая обыденную и порядком поднадоевшую работу, разрезал себе вены на запястьях.
— Ух ты, кровушка моя красная, прекрасная, — пробормотал. — Кровушка, до свиданья, резус-фактор отрицательный, идеальный я жених… был. Чао, бамбино. На Войне не убили… не сдох… во всякие переделки попадал. А тут… что ж ты, Лех… Юргенс… — Его настоящее имя хлестнуло его по ушам, он закрыл ладонями лицо. Темная кровь медленно сползала по запястьям, капала в воду. — Что ж это я… какой слабак стал. Что ж это мне себя… — он поднял к потолку голову, как воющая собака поднимает к небу, — жалко.
Он откинулся головой на край желтой, ржавой, пахнущей мочой и коньяком ванны. Как Жан-Поль Марат, смешно и глупо. Опустил руки в воду. Поднялся. Выпрямился, как школьник за партой. Так сидел — и глядел очень внимательно, бесповоротно глядел, как живая кровь медленно вытекает из жил.
Дурень. Ты ж еще не мучился. Твои люди, рядом с тобой, погибают: в тюрьмах. В этапах. На фронтах. От пыток. От побоев. От взрывов. От голода. А Армагеддон погибает от роскошества. И все погибают. И ты уже не чувствуешь вкуса жизни. Ты зачем захотел сам умереть, скажи?!