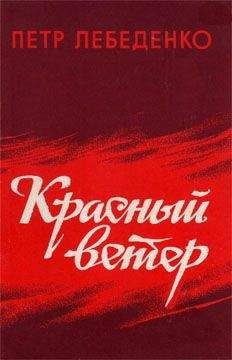Следователь слушал и как-то странно покачивал головой: плети, мол, плети, Бабичев, рассказывай сказки. Потом он проговорил:
— А ваши летчики слушали вас, Бабичев, и говорили между собой: «Старший лейтенант Бабичев воевал в Испании, и кому же, как не ему, знать, что из себя представляют фашистские асы и их техника. И куда нам с нашими драндулетами тягаться с ними. Они будут бить нас, как куропаток, и это будет не война, а сплошная Варфоломеевская ночь. И ваши молодые летчики, Бабичев, вместо того, чтобы действительно отдавать все силы боевой подготовке, заранее поднимали лапки кверху. Слышите, Бабичев! Вы их деморализовывали, самым настоящим образом деморализовывали, и я не советую вам запираться. Нам давно известна такая вражеская тактика, мы встречаемся с ней не впервые. Ясно вам, Бабичев?»
Он умолк, в упор глядя на Бабичева. Бабичев тоже молчал. Все, о чем говорил следователь, не укладывалось у него в голове. Бред какой-то. Чудовищный бред! Верит ли сам этот человек в то, о чем толкует? Наверное, верит. Хотя он пока и не повышает голоса, однако интонации его говорят сами за себя: он убежден, что перед ним — враг, которого нельзя щадить…
Следователь вдруг встал со своего места, прошелся несколько раз по кабинету, затем, подойдя к Бабичеву, положил руку ему на плечо и сказал как-то доверительно, почти по-отечески, перейдя на «ты».
— Слушай, Николай, тебе всего двадцать пять лет, у тебя все еще впереди. Если хочешь знать, мне искренне жаль тебя. Ты заслужил два боевых ордена Красного Знамени, и это говорит о том, что ты человек по-настоящему мужественный. Я вот смотрю на тебя и думаю: у этого парня блестящее будущее. Может пойти учиться в военно-воздушную академию, закончит ее и выйдет оттуда замечательным командиром. Командиром высокого ранга. О таком будущем мечтают тысячи летчиков, но не перед каждым оно распахнет свои двери. А перед тобой распахнет. Распахнет, Николай, в этом можно не сомневаться. Но… На свете много злых людей, и много таких, которым не по нутру, чтобы в нашу Красную Армию приходили волевые, грамотные, беспредельно любящие свою великую Родину люди. И знаешь, почему это им не по нутру? Потому что они ненавидят наш строй, ненавидят люто, до пены у рта. Потому что они наши с тобой классовые враги. И вот эти люди — умные люди, Николай, опытные, прекрасно разбирающиеся в человеческой психологии — всеми правдами и неправдами заманивают в свои ловушки нашу замечательную молодежь, стараясь привлечь ее на свою сторону. И часто им это удается. Недаром у нас говорят: «молодо-зелено»… В твоем возрасте человек не имеет твердой закалки, он еще не может отличить плевелы от добротного зерна, и порой, до конца не разобравшись кто есть кто, принимает врага за друга…
Он говорил и говорит, продолжая держать руку на плече у Бабичева, давая, видимо, понять, что это есть по-настоящему дружеская рука, на которую всегда можно опереться. А когда он замолчал, Бабичев повернулся к нему лицом и сказал:
— Но ко мне это никак не относится. Никто меня ни в какую ловушку не заманивал.
Следователь снова сел на свое место и вот только теперь повысил голос:
— Именно к тебе все это и относится, Бабичев. Нам доподлинно известно, что твои командиры, включая и командира твоей части, не раз и не два «по-дружески» тебе советовали: почаще говори молодым летчикам о страшной силе фашистской авиации, пусть они знают, что бороться с ней не только трудно, но и невозможно. Пусть они морально будут готовы к мысли о том, что — фашистская авиация непобедима.
— Не было этого! — крикнул Бабичев. — Это неправда! Это ложь! Вот только теперь следователь и сорвался. Он кулаком грохнул по столу и закричал:
— Было, Бабичев! Было! У нас есть тому неопровержимые доказательства. Слышишь — неопровержимые! И перестань юлить, это ни к чему хорошему тебя не приведет. Не суй свою шею в петлю, спасая другие шеи. Ты меня понял? Я спрашиваю, ты меня понял?
— Чего вы от меня хотите? — упавшим голосом спросил Бабичев.
— Вот это уже деловой разговор, — оживился следователь. — Недаром у меня сразу же сложилось впечатление, что ты умный парень. И я еще раз хочу повторить: мне по-человечески тебя жаль. Ну заблудился, поддался чужой воле — с кем этого не бывает. Главное, во-время признать свою ошибку…
Он выдвинул ящик письменного стола, за которым сидел, вытащил оттуда два исписанных каллиграфическим почерком листа и подвинул их поближе к Бабичеву.
— Вот, прочитай внимательно, подпиши и с Богом оправляйся домой. Спросят, где ты все это время был, что делал, скажешь так: вызвали, интересовались фашистской авиацией в Испании, расспрашивали о летных данных немецких самолетов, о тактике, применяемой фашистскими летчиками в воздушных боях и тому подобное… Ну, а это, — он кивнул на лицо Бабичева, — напали, мол, какие-то бандюги, пришлось защищаться.
Бабичев начал читать. Боже мой, чего только там не было! Такой-то командир эскадрильи, начальник штаба, сам командир авиационной части постоянно требовали от Бабичева внушать молодым летчикам о непобедимости фашистской авиации, о высочайшей боевой подготовке немецких и итальянских летчиков, об их боевом духе, храбрости и так далее, и так далее.
По мере того, как Бабичев читал все эти кем-то высосанные из пальцев небылицы, все в нем кричало от возмущения, ему хотелось отбросить от себя исписанные листы как нечто грязное, пакостное, неведомым образом пачкающее его душу, хотелось разорвать всю эту писанину на клочки и бросить в лицо следователю. А тот сидел и внимательно наблюдал за Бабичевым, и Бабичеву вдруг показалось, что следователь смотрит на него каким-то гипнотизирующим взглядом, внушает ему мерзостную мысль о неизбежности того, что он, Бабичев, обязательно должен поставить свою подпись под документом, и он ее поставит, потому что другого выхода у него нет. А потом Бабичев подумал, что его подпись станет приговором для командира эскадрильи, начальника штаба и командира части, приговором окончательным, который обжалованию не подлежит. Он положил руки на листы, а на руки положил голову и долго сидел неподвижно, а когда снова выпрямился, лицо его исказила гримаса душевной боли. Тихо, почти неслышно, он проговорил:
— Я этого не подпишу. Я не могу этого подписать…
— Что? — следователь стремительно вскочил и, наклонившись к Бабичеву всем корпусом, переспросил: — Что? Ты не можешь этого подписать? Ты отказываешься?
— Да. Я отказываюсь…
Тогда следователь спросил, едко усмехнувшись:
— Слушай, Бабичев, как ты назвал то место, откуда тебя сюда привели? Каменным колодцем? Что, оно действительно похоже на каменный колодец?
Бабичев не ответил. А следователь добавил:
— Приходится констатировать, что место это тебе по душе. А почему нет? Там не жарко, там тишина, никто не мешает думать о своей судьбе, вспоминать прошлое и мечтать о будущем. Однако, кто знает — будет ли оно, это будущее…
Каждый день, звеня связками ключей, в «каменный колодец» являлся надзиратель и, дав глазам привыкнуть к густым сумеркам камеры, приближался к скорчившемуся в каком-нибудь углу Бабичеву, пинком сапога поднимал его с холодного бетонного пола и говорил:
— Дурак! Разве ж можно лежать на бетоне. Простудишься. (Смеялся). А пилюлей от насморка у нас нету. Так что — тебе лучше ходить и ходить. Ходьба — дело пользительное. Жрать хочешь? Держи вот генеральский паек. — Совал кусок черствого хлеба или пару полусырых картофелин и продолжал: — Отбивные из свинины и куричьий бульон еще не готовы. Да зачем тебе такое нужно? Умные люди говорят, будто чем тощее человек, тем ему легче на тот свет отправляться. Ты как на это смотришь?
Прислонившись спиной к стене, Бабичев смотрел на этого полузверя-получеловека и молчал. Но однажды сказал:
— Есть люди, которые издеваются над справедливостью так, будто она их злейший враг. Правда, тут трудно наверняка сказать, можно ли этих людей называть людьми. Скорее они похожи на зверей…
Надзиратель долго размышлял над словами Бабичева, тупо на него уставившись. А когда смысл этих слов до него, наконец, дошел, он сказал:
— Хвило-ософ!.. Ты ж кого, падла, называешь зверем? Меня? Это я-то зверь? Да я тебя, сука, в пыль! Придушу вот сейчас — и скажу, что сам подох. И спросу с меня никакого не будет.
Он и вправду потянулся руками к горлу Бабичева, но летчик стоял, не шевелясь, смотрел прямо в точно налитые кровью глаза надзирателя, и тот не выдержал этого взгляда, отступил, а затем размахнулся и связкой ключей ударил Бабичева по голове.
— Я тебя все равно когда-нибудь прикончу, падла, — сказал он и вышел из камеры.
Два раза в неделю дежурил другой надзиратель. Какой-то весь неуклюжий, с сутулой спиной, прихрамывающий, с неуловимым выражением худого лица, глубокие морщины которого придавали ему вид озлобленного человека, он, едва открыв дверь (надзиратели входили далеко не в каждую камеру, к Бабичеву входили потому, что нисколько его не опасались: доходня), сразу же начинал громко, так, что голос его был слышен далеко по коридору, кричать: