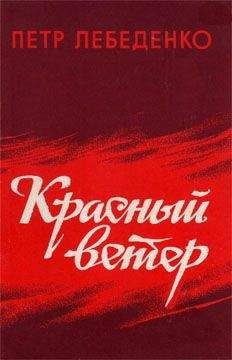— Поверят? — спросил Денисио.
— Поверят! — убежденно ответил Бабичев. — Не могут не поверить. Меня ведь многие там знают… Главное в другом, Денисио. Главное в том, чтобы добраться до линии фронта и перейти эту линию. Немцев не боюсь — живым им в руки не дамся. Убьют — так хоть не свои, понимаешь? Не свои! Буду считать, что погиб в бою. Для меня это очень важно, Денисио, тебе, наверно, трудно такое понять.
— Нетрудно, — едва заметно улыбнувшись, ответил Денисио. — Совсем нетрудно.
— Спасибо тебе, камарада Денисио! — Голос Бабичева заметно дрогнул. — Я верил, что ты меня поймешь. Поэтому и ехал к тебе.
— Скажи, — спросил Денисио, — когда ехал ко мне, думал о том, что я чем-то тебе помогу?
— Думал, — откровенно ответил Бабичев. — Хотя и сейчас не знаю, чем ты можешь помочь. Все так сложно…
— Да, все так сложно, — согласился Денисио. — Но отчаиваться не надо. Будем думать…
Около недели прожил Бабичев у Денисио, никуда не выходя, никому на глаза не показываясь. Долгими вечерами сидели вдвоем в теплой комнатушке, нещадно дымили папиросами и все строили, все строили планы, как Бабичеву добраться до фронта. Однако, ничего конкретного решить не могли. Бабичев с каждым днем становился все угрюмее, все раздражительнее, оставаясь один, прислушивался к каждому звуку, настораживался, ждал, что каждую минуту в дом может ворваться кто-нибудь из тех, кто охотится за такими, как он. Он понимал, что подвергает опасности и Денисио, и хотя Денисио делает вид, что ни о чем не беспокоится, Бабичев не мог не думать: если его здесь обнаружат, Денисио не поздоровится.
Несколько раз Денисио задумывался: не открыться ли во всем перед капитаном Шульгой? Командир эскадрильи, наверняка, мог бы помочь Бабичеву. Отправить его, например, с каким-нибудь экипажем в роли моториста или авиатехника на фронт — кто там станет докапываться до истины?! Но он снова и снова отбрасывал эту идею.
Не потому, что не верил в капитана Шульгу — он верил в него как в самого себя. Однако все документы должны были проходить через штаб, через начальника штаба Мезенцева, а Мезенцеву Денисио не верил ни на грош: предаст и самого капитана Шульгу, и Бабичева. И вот однажды Бабичев попросил:
— Достань мне какой-нибудь старенький кожушок, шапку ушанку, поношенные валенки, рюкзачок и немного харчей. В конце концов, по стране идет сейчас что-то похожее на великое переселение народов. Тысячи и тысячи беженцев мечутся из конца в конец, сотни эшелонов с мобилизованными, еще не обмундированными солдатами движутся на запад — разве не смогу я затеряться в этой, огромной толчее? Не могу, скажи?
Денисио пожал плечами:
— Все это ненадежно.
— А что надежно? Ты видишь другой какой-нибудь выход?
— Не вижу, — признался Денисио.
— Я тоже не вижу, — сказал Бабичев. — А решать что-то надо. Вот и давай на этом остановимся.
…Он уходил от Денисио в такую же буранную ночь, какой была та, в какую он пришел сюда. Денисио хотел проводить его до железнодорожной станции Тайжинска, откуда уходили на запад эшелоны товарных поездов с грузами для фронта, но Бабичев сказал:
— Не надо. Ты сделал для меня все, что мог, и этого я никогда не забуду. Особенно не забуду главного: ты мне поверил.
Они крепко обнялись и через минуту снежная коловерть поглотила удаляющегося — бывшего летчика Николая Бабичева.
Не раз и не два Денисио вспоминал своего товарища, с тревогой размышляя о его судьбе. Иногда думал: сгинул человек, пропал. И щемило тогда сердце от боли, щемило так, словно сжимал его кто-то грубыми холодными руками.
Не знал, не мог знать Денисио, что пройдет время, и судьба вновь столкнет его с Бабичевым, с человеком, которого он в тяжелом бою над испанским городом Сарагоссой спас от неминуемой гибели.
1
И еще одна боль глубоко засела в сердце Денисио: Полинка. Не мог он без боли смотреть, как тает на глазах этот чудесный человек, не мог видеть, как уходит из нее все, что когда-то наполняло ее жизнь.
Правда, временами Полинка вроде как приходила в себя, начинала здраво мыслить и говорить, к ней будто вновь возвращался рассудок, но это не приносило ей облегчения, напротив, реально осмыслив, какая произошла трагедия, что Федора больше нет и никогда не будет, она впадала в страшную депрессию, из которой, казалось, ей уже не выйти. В такие минуты, часы, а порой и долгие дни, она закрывалась в своей комнатушке, ничего не ела, никого не хотела видеть, лежала на кровати или сидела за столом, подперев голову руками и исстрадавшимися глазами глядела в пустоту. Ей бы поплакать, облегчить слезами душу, но слез уже не было — выплакала их все без остатка.
Марфа Ивановна без стука входила к ней в комнату, садилась рядом с ней, вздыхала:
— Да што ж ты делашь-то с собой, доченька? Да разве ж можно так мучить-то себя. Погляди вокруг — горем и слезами земля залита от края до края, каждый божий день люди похоронки получают, а живут же…
Полинка молчала.
— Да и Бога гневишь ты, доченька, продолжала Марфа Ивановна. — Судьбу-то Бог посылает, испытанье человеку делат, вот и покориться судьбе своей надо. Ну поплачь, ну пореви по-бабски, а чего ж так-то…
Полинка молчала.
Сырая холодная ночь окутывала ее душу, нигде никакого просвета, солнце над ее миром давно погасло.
Но проходило время и Полинка вдруг оживала, уходила из глаз терзавшая ее мука, она смотрела на себя в зеркало и удивлялась: как же она себя запустила, господи! Волосы взлохмачены, платье измято, лицо — краше в гроб кладут, ни живинки, ни кровинки в нем, а если Федя сейчас появится, глянет на нее такую, что ж она скажет ему?
И скорей, скорей, пока не поздно, Полинка начинала приводить себя в порядок, мыла голову, пальчиками разглаживала, Бог весть, откуда появившиеся тоненькие, как паутинки, морщинки у глаз, доставала нарядное платье, туфли на высоких каблучках, даже щеки подрумянивала, чего раньше никогда не делала, и бежала к Марфе Ивановне.
— Как я, Марфа Ивановна? Ничего? Понравлюсь Феде? Не скажет он, будто я без него опустилась?
— Не скажет…
Марфа Ивановна прижимала руки к груди, на глазах у нее появлялись слезы: «Опять… Опять пришло…» А Полинка весело щебетала:
— Феденька — он ведь такой, Марфа Ивановна. — Он в жизни все красивое любит. Светлое все. Он и сам весь светлый, правда же, Марфа Ивановна? А вы чего такая грустная? Вы ведь еще совсем молодая женщина, вам и повеселиться не грех… Где гребень-то ваш? Я вот такую вам прическу сделаю, что все знакомые только ахнут.
— Потом, доченька, — выдавливала из себя сквозь слезы Марфа Ивановна. — Потом. Пошла бы ты маленько погуляла, воздуху вздохнула.
— А вдруг Федя без меня появится?
— Так он же уехамши, Федя-то. Тута, в городишке, его ведь нету.
— Уехамши, уехамши, — недовольно говорила Полинка. — Какая вы странная, Марфа Ивановна. Не навсегда же он уехал… Ну ладно, пойду прогуляюсь. А если Федя появится, скажите, я у Вероники Трошиной буду.
— Скажу…
Полинка уходила, а Марфа Ивановна тяжело опускалась на табуретку, опять прижимала руки к груди. «Откуда ж такое наказанье господне, как же такое перенести человек может… В головке-то ее, небось, огонь непотухаемый денно и нощно полыхат, жгет нестерпимо. Да уж лучше бы оно на меня, старую, подобное завалилось, прости меня грешную, господи…»
Вероника всегда встречала Полинку с двойственным чувством: ей и тяжко было видеть то совсем потухшие, то вдруг загорающиеся неземным блеском глаза Полинки, и в то же время она испытывала непонятное ей самой облегчение от общения с ней, словно это общение каким-то образом приносило ей очищение, хотя и временное, от той грязи, которую она постоянно ощущала в себе с той самой проклятой ночи. Почему она испытывала такое облегчение в присутствии Полинки. Думая о своей страшной вине перед ней, она мучилась во сто крат сильнее, чем тогда, когда Полинки не было рядом, и эти муки, эта неподдельная боль за судьбу Полинки как бы частично искупали ее вину — разве страдание не очищает человека?
Не покидало Веронику и еще одно терзающее ее чувство: страх за Полинку. Видя Полинку в те дни, когда ее рассудок прояснялся и все представало перед ней в настоящем свете (Федора нет и никогда больше не будет, потому что мертвые не возвращаются), вот именно в эти дни Вероника не могла не думать о том, что Полинка в порыве отчаяния может решиться на крайний шаг и уйти из жизни. Коли это, не дай Бог, случится, то тогда и ей, Веронике, лучше не жить. Потому что смерть Полинки своей тяжестью раздавит ее, превратит в существо вечно мятущееся, до конца дней не находящее и капли покоя…
Таким образом, страх за Полинку смыкался со страхом за свою жизнь, становился похожим на занесенный над Вероникой карающий меч, на возмездие за тяжкий грех.