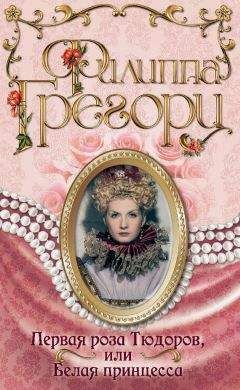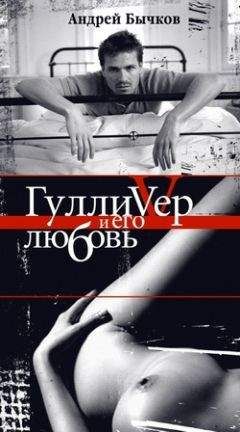Мы подлезли под вагоны и побрели по полю, не понимая еще, почему много людей лежит в бурьяне. Стонали раненые, откуда-то бежали женщины и мужчины с красными крестами на рукавах, из пустыни приехало десятка два грузовиков, крытых брезентом. Я наткнулся на останки человека. У него не было нижней половины тела, кишки вывалились на песок, а пальцы рук продолжали судорожно сжиматься и разжиматься, случайно захватывая и срывая кустики колючей травы. Какой-то капитан приказал мне с Димой грузить раненых на машину и сопровождать их до полевого госпиталя. Раненые плотно лежали в машине на соломе и громко стонали. Сквозь свежие повязки сочилась кровь. Сестричка, молоденькая девушка в пилотке и с небольшими косичками, плача повторяла: «Потерпите, миленькие. Потерпите, миленькие…»
Мы с Димой поддерживали тяжелораненых, в кузове среди них оказались ребята из Шахтерска — Иван Щетинин и Олег Помогаев. Мы едва переносили сладковато-тошнотворный запах крови. Машину трясло, раненые стонали, сестричка, плача, говорила и говорила одно и то же, а я пропадал от запаха крови. У Помогаева, которого я держал, не было правой руки, и он уже не стонал. Я видел, что его молодое безусое лицо страшно сжалось от боли. И вдруг лицо разгладилось и будто волна спокойствия пошла от глаз к губам, по подбородку…
Он даже не доехал до Сталинграда. А мы, оставшиеся в живых, на другой день были на переправе через Волгу. Солнце, казалось, садилось в самое пекло Сталинграда, скрывалось в черных дымах, поднимающихся высоко в синее небо.
Небольшой катер с изрешеченной осколками палубной надстройкой упорно тащил баржу через Волгу. Широкая река кипела бурунами взрывов. С левого берега били наши тяжелые орудия. Снаряды со свистом проносились вверху; все сильнее грохотало за дымящимися развалинами. Стена из пыли, дыма и огня вздымалась на крутом берегу. Мы попрыгали с катера кто в воду, кто на изрытый прибрежный песок и с ходу бросились вверх по обрыву, в этот содрогающий душу грохот… От города остались стены и отдельные обгорелые дома. Клыками торчали уступы, грудились завалы из битого кирпича, щерились подвалы. Но вокруг все еще что-то горело.
В тот день немцы опять взяли железнодорожный вокзал, и нужно было его отбить в какой уж раз…
Мы с Димой не выпускали из виду своего отделенного, усатого сержанта, уже побывавшего в боях, и все делали, как он. Он перебегал, и мы за ним, он падал в воронку, и мы пахали носом землю. Внезапно вывернулся из-за углового дома танк, и сержант пристроился за ним, махнул нам рукой. С неба один за другим, и, казалось, только прямо на меня, пикировали самолеты, свистели, и тут же рвались бомбы, а я бежал ошалевший и угорелый. Но меня хватал за ноги сержант и валил на землю. Бомба рвалась, и я поднимал голову, сержант ругался и совал меня мордой в битый кирпич. Дима бежал чуть впереди меня и строчил из автомата, куда, и сам не знал. Просто перед собой, а я из своей «снайперки» тоже палил напропалую.
Но вот развалины расступились, и мы выскочили на площадь, заваленную танками, обгорелыми бронетранспортерами, перевернутыми пушками и раздавленными ящиками со снарядами. Окопы и воронки завалены трупами. Споткнувшись, я свалился в воронку прямо на разорванного пополам немца. Красновато-грязное месиво вместо ног и серое лицо с одним открытым глазом, уставившимся в чужое и страшное небо.
От вокзала немцы били из пушек прямой наводкой, за длинное станционное строение упал горящий самолет и со страшным грохотом взорвался. Мы пробирались между подбитыми танками. Я с трудом разлеплял воспаленные глаза, сдерживал дрожь в ногах и диким голосом кричал вместе со всеми: «А-а-а-а!» Из окон вокзала выползали черные щупальцы и неслись струи трассирующих пуль. Не заметили, как загорелся наш танк, бросились в окопчик прямо на немцев, но Дима успел дать по ним очередь. Перебравшись уже через мертвецов, мы оказались у стен вокзала. Сержант метко бросил гранату в окно, взобрался на наши плечи и перевалился внутрь. Он подстраховал нас, сразив пулеметчика. На втором этаже лежал молоденький немец, уткнув голову между стойками перил. Пулемет валялся рядом.
Из окна билетной кассы неистово бил пулемет по входу и прижимал бойцов, не давая им и головы поднять. Я приложился к «снайперке», на миг поймал в перекрестье подбородок немца и нажал на спусковой крючок. Пулемет умолк, и бойцы вскочили, закричали. Началась рукопашная. А мы отсекали подбегающих немцев. Но все новые и новые толпы солдат с двух сторон прибывали в вокзал.
Вдруг дверь позади нас с треском распахнулась, и показались немцы, но сержант будто ждал их, резко обернулся и длинной очередью полоснул и тут же бросил в дверь гранату. Взрыв, крики — и все… Вот это да! Ну и отделенный нам попался! А внизу бой выдыхался, немцы пятились, славяне все громче кричали…
На следующий день вокзал был полностью очищен. И была передышка. Мы отсыпались в подвале какого-то дома. Андрей и Петр с затаенной веселостью рассказывали, как схватились в рукопашную с фрицами. В первом же бою по одному немцу прикончили. Но вскоре веселость прошла, и задымили ребята самокрутками.
Бессчетное чередование дней и ночей, беспрерывные бомбежки, артиллерийский обстрел, атаки немцев и борьба за каждый дом, даже за каждый выступ…
Я потерял счет дням, перед глазами все время стояли развалины и черное от дыма и пыли небо. Мне стало казаться, что я родился солдатом в прожженной шинели и со «снайперкой» в руках. И не было у меня ни детства, ни юности. Но была же мама и еще была Инка… И лето было, и наша Красная балка, и прохладные омуты в ней были…
Но вот Дима о чем-то спросил, и я очнулся от забытья. А понятливый Петр уже сует мне в руки зажженную цигарку. Андрюшка без конца честит фрицев, отрезавших дорогу к Волге…
Все время хочется пить… Мы умирали от жажды…
За водой пошел Дима. На нейтралке взлетали ракеты, глухо взрывались мины… Я не выдержал и пополз в бушующую темноту… И нашел, нашел друга на дне полузасыпанного колодца. Он был ранен, но успел наполнить фляжки водой. Рядом валялись двое скрюченных фрицев…
— Я знал, что ты придешь, Кольча… А воду я нашел… Если увидишь Инку, скажи ей…
Навстречу из окопов выскочили Петр и Андрей, приняли на руки Диму. Мы как могли перевязали раны на голове и на груди…
— Кольча, Кольча, — звал меня Дима в бреду. — Там родничок в колодце бьет… Под моими пальцами родился… Не отдавай его фрицам… Он наш! Инка! Где ты? Успела ли уйти от немцев?..
Утром Диму отправили в госпиталь. И каждую ночь мы ходили за водой к своему родничку. Как-то я пополз за водой, и снаряд накрыл меня у самого колодца.
Ранение оказалось тяжелым. Контузия головы, раны на бедре и в боку. Сначала лежал в подземном госпитале, вырытом в крутом берегу, а долечиваться отправили в глубокий тыл, в Свердловск.
Когда немного окреп, попросил сестричку разыскать Владимира или Ксению. Они же сюда эвакуировались с химкомбинатом еще в сорок первом. Дней через пять в палату вбежала Ксения.
— Кольча! — закричала она с порога и птицей бросилась ко мне, упала на колени перед кроватью.
Она плакала и смеялась, размазывая слезы по исхудалому лицу с огромными черными глазами.
— Ты живой, Кольча, живой? — причитала Ксения.
Я никак не ожидал от нее такой порывистости. Она всегда казалась мне черствой.
— От Володи уже три месяца писем нет, — пожаловалась Ксения, усаживаясь на край кровати. — Мы с Игорьком в клетушке ютимся… Кровать, стол и одна табуретка. Работаю на химкомбинате… Как страшно! Не живу, а так, существую! Расхныкалась, да? А от Володи три месяца…
— Успокойся, Ксюша…
Успокаиваю ее, а у самого сердце сжимается от тревоги за родных и близких, оставшихся в Шахтерске.
Полтора месяца провалялся в госпитале. Раз в неделю меня навещала Ксения. Пришло письмо от Владимира. Он был ранен, но сейчас поправился и снова на фронте.
Госпитальная комиссия хотела дать мне нестроевую. Что-то намудрили врачи с моими ребрами. Одно не так срослось, и при быстрой ходьбе в груди кололо при каждом вздохе. А может, еще что-то было, да врачи не говорили? Я попросился во вспомогательные войска, лишь бы на фронт, и получил назначение в Тульское оружейно-техническое училище, которое в то время находилось в Томске. Я должен был ехать туда с командой из девяти человек.
Успел заехать в Нижне-Исетск, где разместился эвакуированный комбинат, километрах в пятнадцати от города, простился с Ксенией. Попили чайку на морковке, вдоволь наговорились, вспоминая дом. Она много расспрашивала про молодого Володю. И горько плакала, размазывая слезы ладошкой по лицу. Игорек ходил в детский сад, играл в войну, тоненькими, почти прозрачными ручками прижимал деревянную винтовочку к впалой груди и тонким голосом вскрикивал: «Дзю, дзю, дзю…»