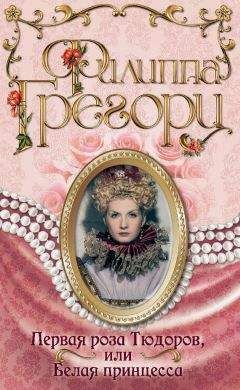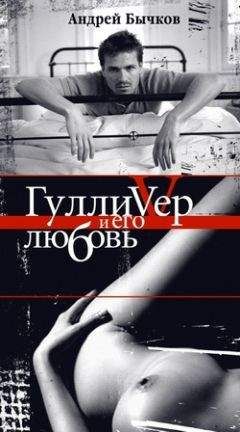В сентябре кто-то начал подрывать рельсы и мосты, эшелоны с танками и войсками летели под откосы и в Дон. Немцы озверели. Расстреливали заложников, установили комендантский час, неохотно выдавали пропуска для поездки на Дон или в соседний город. Однажды ночью был схвачен наш классный руководитель Пал Борисыч Дыхнович. Его приняли за еврея и повесили на поселковом базарчике. А нашу Корсакову Елизавету Валерьяновну, учительницу немецкого, повесили за саботаж. Она отказалась работать переводчицей в полиции. Они висели рядом на одном столбе. Почему они не уехали? Почему-то вдвоем стали жить при школе, в пустой директорской квартире. Поздняя любовь? Елизавета Валерьяновна часто прибаливала, и Пал Борисыч ухаживал за ней. И задержали-то его ночью с лекарством, которое он нес от аптекаря.
Ина осталась с матерью, которая отказалась ехать «к черту на кулички», тем более, что Потапыч минировал шахты и должен уйти из города после их подрыва.
Немцы ворвались в дом на бугре, женщин и детей угнали на шахту «Новая», где спешно оборудовали концлагерь. Полина Викторовна увидела Инуську, бьющуюся в руках гогочущих солдат, да так и замерла с застывшим ужасом в глазах…
Через две недели после похорон матери Ина пришла к Таньке Гавриленковой, и та едва узнала свою подружку в исхудавшей женщине с горящими лихорадочным огнем глазами. Вскоре Инка танцевала с офицерами в казино.
В нашей летней кухне с утра до вечера хлопотал у кастрюль с варевом для офицеров развеселый повар Ганс. Кто ни придет из соседей или знакомых отца и мамы, повар тут же заставляет чистить картошку. Совал в руки ножик и весело говорил: «Давай, Иван, нарезай карточку!»
Прибежит соседка за очистками или посудачить к маме, забредут ли старики к отцу за махоркой, Ганс тут как тут со своими ножами. Прикидывался простачком, а сам будто всверливался маленькими глазками. Заглядывал на кухню и Гавриленков, привычно садился на лавку, брал у Ганса нож, чистил картошку и заводил с отцом рискованный разговор.
Отец и мама с разболевшейся Зиной ютились в пристройке к кухне, чистили картошку, мыли посуду, выносили помои, убирали в доме и кормились остатками от офицерских обедов. Но Ганс завел такой порядок: нужно было каждый раз спрашивать разрешение у него, чтобы унести эти остатки в пристройку.
Все больше раненых офицеров поступало из-под Сталинграда. Не только школа, но и соседние дома были забиты немцами. Ганс с трудом управлялся с обедами, в доме стало шумно, казино жужжало, как растревоженный улей.
Осень, слякоть, не слышно даже собачьего лая по ночам — немцы всех собак перестреляли.
Обед закончился, но офицеры не расходились, пили шнапс в баре, устроенном в коридоре дома, раскачивались в убаюкивающих звуках танго с развеселыми девицами. Кто-то заводил патефон, кто-то напевал песенку.
Когда в доме появлялась разодетая и накрашенная Ина Перегудова под руку с офицерами, Зина презрительно говорила: «Сучка! Все забыла! Даже смерть матери! Чтоб тебя задушили гансики!»
Зина мазалась угольной пылью, пристраивала горб на спину и старалась не показываться офицерам на глаза, но визг и хохот Инки, несшийся из дому, доводил ее до белого каления.
— Папа, да что же это такое? Ведь эта погань среди нас была…
Отец бормотал что-то непонятное и пожимал плечами. Гавриленков откладывал нож, скручивая цигарку и елейным голосом тянул:
— Растолкуй, Егор Авдеич, куда же подевалась Советская власть, за какую ты головы не жалел? Чего ж ты молчишь? Радоваться надо, что нету той власти… Вот как получается… Вчерась ты был хозяином… Немцы прознали про то и не трогають тебя, понял? Вот я и говорю… Вчерась ты хозяином ходил, а седни я!..
— Ходи да оглядывайся, — усмехнулся отец. — Всяко бывает…
Отец рискованно намекал на смерть полицаев, найденных немцами в Красной балке с проломанными черепами.
И офицеры, посещающие казино, стали пропадать один за другим.
— Пужаешь? — Гавриленков замахал руками, разгоняя едучий махорочный дым. — Чтой-то не пойму тебя, Авдеич, куда клонишь?..
— Зачем мне пужать тя? Сам не дурак. Видел, сколь везуть раненых немцев? Все одно всех перебьють… В окошко своей лавки видишь, небось? Едуть и едуть на Сталинград, апосля их назад везуть… А скольким березовые кресты понаставили в степях? Вопрос исчерпан! Побьем ить немцев!..
— Что-то не дюже верится. Сколь земли захватили. Сказывають, вот-вот Сталинград возьмуть…
— Нет уж… Ежели до сих пор им дають прикурить… А почему? Там ловушка, приманка, понял? Чтоб они там по уши… Как они перли? Как на параде! А что оказалось? Сталинград — это мельница! Да рази кто мог одолеть нас?
— А татары?
— Но тогда не было единой России. Каждый для себя греб… Вот как ты счас… Но ты не князь Рюрикович, а так…
— Ох, Авдеич, сколь тебя знаю, а все не раскушу… Дым в глаза пущаешь… Тебя же из партии выперли, а ты Советскую власть защищаешь… Неужто совсем не обидно?..
— Чего там! — с неподдельной горечью проговорил отец. — Обидно, Кондрат Емельянович!.. Обидно, что у нас водятся такие, как Дергач..
— Ну, хитрец же ты, Авдеич! — засмеялся Гавриленков. — Может, для близиру комедь ломаешь? Может, ты здеся самый главный из подрывников? С динамитиком умеешь, Авдеич, баловаться. Видел, как ты камень для колодца в Красной балке рвал… Эшелончики-то с рельсов летят… Немцы с ног сбились, а ты картошку чистишь? Ха-ха-ха!.. Ну и хитрец ты, Кондырь!..
— Ох, Авдеич, — подала свой голос мама. — Над пропастью ходишь… Да и ты, соседушка, хорош… Вон как измываешься…
— Ничо, мать, — посмеивался отец, — ему ить страховка нужна. Мол, бегал у немцев на веревочке, а Кондырева не выдал.
— И на том спасибо, Авдеич, — тусклым голосом сказал Гавриленков. — Даже помочь могу, если приспичит нужда… Там у меня погребок потайной есть…
— Это в каком ты в революцию отсиживался? Не-е-е… Не люблю темень да плесень…
Гавриленков похмурился, похмурился, молча поднялся и ушел.
— Зачем ты его злишь? Ведь донесет, подлый!
— Не донесет. Он может мне пригодиться. Чую, злой на немцев… Думал, они дадуть ему развернуться. А они пьють и жруть и не платють. Вчера жаловался, что прогорает. Вот и послал Таньку к офицерам, чтобы она охранную грамоту заработала.
— Тьфу, стервотина! — гадливо сказала мама и оглянулась на Ганса, хлопочущего у плиты. Тот жарил кур. — А он не понимает?
— Не-е-е… Инка сказывала, что быстрого разговора не улавливает.
— Инка? — изумленно всмотрелась она в отца.
— А что она… Девка как девка.
— Что ты говоришь, Авдеич?
— А то и говорю, Мария… И больше не спрашивай, ради бога!..
Заходил на кухню и ординарец капитана, начальника казино, ефрейтор Фридрих. На вид совсем ничего: маленький, плюгавый, а злой как хорек. Бесцеремоно заглядывал в кастрюли, пробовал жаркое, похлопывал Ганса по плечу.
Завидев ефрейтора, Зина забивалась в пристройку, со стоном валилась на койку. Ее горб смешил ефрейтора.
— Я таких горбатеньких никак не смотрейт… Всех горбатеньких мы будем пук, пук! Перемолойт… Как это? На вальцах… Ха-ха-ха!..
Отец посмеивался над нахальным ефрейтором, который явно пытался что-то разнюхать…
— Ми завоевать аллер мир! — кричал тоненьким голосом Фридрих. — Партизан не помешайт!..
— Весь мир — большой каравай, — возразил отец. — А наша земля — полмира. Ну, дошли до Волги, а дальше что? Дальше Сибирь, тайга, тундра! Вы же там разбежитесь и друг друга не увидите… По одному переловят и перехлопають вас сибиряки…
— Молчайт! — закричал ефрейтор, и лицо его покраснело. — Большевик! Партизан? Что? Молчайт! В Сибири япон, самурай…
— Они уже пробовали на Халхин-Голе…
— Молчайт! — ефрейтор затопал ногами. — Ми, фатер, тебья… Ха-ха-ха! Всех партизан япон… Маккаки подарить. А горбатеньких, — немец неожиданно схватился за тряпичный горб Зины, выглянувшей из пристройки за кипятком для заварки травы, — в печку будем немножко бросайт живьем…
Зина взяла с плиты чайник и скрылась. Мама мыла посуду и была чернее тучи.
— Да не зли его, Авдеич, греца такого, бисова сына!.
Степан пришел под вечер, когда отец в раздумье сидел под тютиной.
— Батя, это я, Степан…
— Эге ж… Ну, как там Фроська?
— Третьего дня разродилась… Парень. Егоркой назвали. Крикун…
— Добро… Немцы тя как, не трогають?
Степан присел за забором в лебеде. Густые высокие стебли отощали, листья на них обвисли, но все еще могли прикрыть притаившегося человека от дурного глаза. В этом году на нее был большой урожай. Сочная, зеленая и с обильными мучнистыми зернами. Лебедой заросли все пустыри и прогалины. Люди рвали ее мешками, варили щи, толкли на муку. Лебеда, лебеда… Ею не любовались, как розами и тюльпанами. Ею спасали жизнь от голода…