— Почему — «скорая»? — спрашивал Валера. — Как чувствуете себя, дядя Миша?
— Вот же я, жив-здоров, — смеялся Михаил Авдеевич. — Ничего со мной не делается! И не сделается!
Порадовались этому.
— Пройдем на кауперы? — пригласил главный, и они попрощались, у всех были свои дела. Правда, Валера пообещал обязательно заглянуть в старый дом на Сиреневой, куда не раз забегал мальчишкой.
А Михаил Авдеевич, войдя в комнату, где во всю стену стоял пульт, приготовился окатить сына выговором, но сдержался. Тут были разные люди, газовщики, электрики, двое незнакомых. С выговором успеется, а пока неожиданно для себя он положил руку на плечо сына, сидевшего у приборов, и спросил:
— Ты где живешь?
— Во саду ли, в огороде, — весело ответил Костя. — А ты — живо домой, в постель! А то — позвоню врачу и отвезем в больницу.
И Михаил Авдеевич понял, что никакого разговора с сыном не получится, потому что глаза мастера вновь кинулись к стрелкам, стараясь поймать их все. А стало их, стрелок, куда больше, чем было раньше...
При уходе из цеха Михаил Авдеевич воровато огляделся и еще раз припал к «глазку». В печке вовсю бушевал огонь. Голубой, рыжий, фиолетовый, неуемный, он бесился за круглым стеклышком, космато свиваясь и наваливаясь на «глазок» изнутри, а то вдруг исчезая и загадочно уносясь куда-то...
Уже на заводской тропе Михаил Авдеевич назвал себя полным чудаком. Слишком горячее место выбрал для разговора!
И опять увидел цветы, на этот раз окружившие постамент, на котором чернели древняя тележка каталя и танкетка с бункером для руды. Как забыто и грустно стояли они, эти безрессорные повозки, отгремевшие свое и ставшие теперь памятниками прошлому. Как тихо они стояли!
Сердце сдавило, и Михаил Авдеевич присел на угол постамента. Домна величаво возвышалась в стороне, как силач, поднявший на себе много тяжестей, знакомых ему до мелочей. В его пору люди, менявшие фурму, все же находили время от души пустить матюка. А нынешние молчуны как красиво работали! Но Костя...
А Валера? Крестным отцом назвал его. И правда. Бывало, что он, уставший, часами рассказывал Валере про печь, а бывало, даже прятался от назойливого соседского мальчишки.
Печь дышала, отсюда было слышно. Та самая, которую он своими руками и душил, когда оставляли город, и пускал после освобождения.
За день до того, как металлурги и их жены построились с лопатами у проходной и ушли рыть окопы, из заводских ворот тягачи еще вывозили толстенные колпаки, этакие несъедобные чугунные караваи, похожие на курганы. Покрытия для дотов — долговременных огневых точек. Здесь отливали. Последние...
Перед неотвратимым часом загрузили в печки легкую, непривычную породу. Остывая, домны наполнились затвердевшим известковым шлаком и задохнулись. Как будто холодные кляпы забили им в горячие горла. Пена, ставшая камнем, схватилась с их стенами. В смертном объятье. Чтобы враг не смог извлечь отсюда металла — даже на пулю.
В борьбе с отчаяньем, наверно для улыбки, это и называлось «закозлить». Никто при этом не улыбался, правда...
А вообще-то у доменщиков водилось много своих словечек. Вот, например, широкие раструбы воздуходувных труб называли граммофонами. И сейчас так зовут. Только другим, другим будут они играть свои песни, а тебе остались воспоминания... Вставай!
А помнишь, как вернулись? Отбили город. Лютой зимой, среди развалин, сразу начали готовить к пуску твою печь. Красный столбик уличного термометра сползал ниже тридцати. Мазут замерзал не только в трубах, но и в чанах. Ничего. Его разогревали форсунками. Сердце и тогда болело, но не этими дурацкими болями, мучающими сейчас.
Ранней весной печь дала плавку — после неправдоподобного ремонта. И в мутном, с редкими пятнышками солнца, небе вдруг очнулся гудок. Он гудел долго, не утихая, а люди на городских улицах стояли и слушали его, как сказочный. Понимали — чугун пошел. Верили и не верили.
Нет, если повспоминать, было за что вручить заводу переходящее знамя Комитета Обороны. Молодой, черноусый, он принимал в протянутые руки это знамя, а вокруг стояли генералы, одетые в панцири из орденов, как в рыцарские доспехи. Эту фотографию он помнит. И смотреть ее не пойдет — в той, новой витрине, еще скажут, для того и на завод притопал.
Прямо с заводской территории зайдет в заводоуправление, поднимется в профком насчет путевки для Зины и — домой.
Тысячи ног, которые утром бесконечной чередой спешили к заводской проходной, вечерами несли уставших людей в обратную сторону. Над бульваром, над их головами, натягивали кумачовые лозунги. В свежую зелень, как в раму, врезались щиты-плакаты, приветствуя май и весеннюю спартакиаду.
Таня радовалась, что кого-то заботило еще что-то, а сама, свесив сумочку в руке, печально шла и думала — о чем, никто и не догадался бы.
«Господи! — думала она, обращаясь вовсе не к господу, а к самой себе. — Найдется ли в отдаленном будущем хоть один человек, который поймет, как мы хотели счастья и как теряли его?» Отдаленное будущее казалось ей счастливей нынешних дней. Иначе зачем жить? Постепенно она уточнила: «моих нынешних дней» — и перешла с бульвара на тротуар, чтобы свернуть в угловой гастроном. И несчастным требовалась еда, тем более после работы.
А работа в эти дни была напряженной донельзя и раздирающей мозги то слишком рискованными, то половинчатыми мыслями, и те и другие не устраивали и поэтому утомляли.
Две домны выплавляли ферромарганцы, необходимые для сталелитейной промышленности. Но вот беда! При выплавке этих самых ферромарганцев образовывались щелочи, которые казались Тане существами с характером, зловредным конечно. Вместе с доменным газом, уходящим в кауперы нагревать воздух для тех же домен, щелочи проникали туда и разрушали кожухи, верхнюю одежду кауперов. Никакая огнеупорная кладка не удерживала этих зловредных щелочей.
Дошло до того, что сократили процессы. К стыду завода, заработали ниже своих возможностей, чтобы не отключать то один, то другой каупер для полной замены разрушенных кожухов, потому что эта замена — дорогое удовольствие.
Но и при ослабленных нагрузках кожухи все равно исподволь трескались. И огромные убытки скоро снова грозили стать явью.
Министерство прислало толкового инженера Лобачева, имя которого Таня слышала и раньше. На Сиреневой его попросту называли Валерой, он вырос по соседству. Видный был мужчина, высокий, плечистый, резковат в словах, но это ей даже нравилось. Не размазня. Однако вот уже который день не решался оценить ее простое предложение и сдержанно бросал в ответ одно-единственное слово:
— Думаю.
А что тут думать? Проклятые эти щелочи неизбежно выделялись в кауперах при охлаждении газов, едва их температура падала ниже четырехсот градусов. Так? Так. Охлаждение происходило, потому что кожух на каупере окружен обыкновенной атмосферой, по существу стихией со всем ее непостоянством плюс капризами — дождями, снегами. Между тем высокая температура была единственным барьером для этих щелочей. А что, если взять да и отделить кауперы от неуправляемой стихии? Одеть их в дополнительные, так сказать, внешние кожухи, во вторые рубахи, на которые пусть себе и наваливается атмосфера. До внутренних она не доберется!
По всем расчетам, каупер станет жить в тепле, не требуя непредусмотренных ремонтов. Вторые рубахи — тоже не бесплатно, но зато — один раз. А дальше — работа на всю мощность.
Выбивая чеки, касса гастронома пошумливала, как автомобильный стартер. Когда-то Таня хотела водить машину. Они с Костей начали даже откладывать деньги на свой автомобиль, но, как почему-то говорил в таких случаях Мишук, лопнула мечта соленого огурца.
Уже выходя из магазина, Таня хватилась, что не купила сливочного масла. Увидела рокфор, обрадовалась и про масло забыла. Она посмотрела на длинный хвост людей у кассы, которая все старалась и никак не могла завести мотор, и махнула рукой. Можно было бы Мишука послать, но он почти безотлучно живет у дедушки. «Привыкай жить одна, Таня, — подумала она и посмеялась: — Ладно, изжарим яичницу на рокфоре!»
— Татьяна Антоновна!
Это ее. И это Лобачев. Она узнала его по голосу раньше, чем увидела, и он позвал еще раз — громче.
Он стоял у вишневой «Волги» с московским номером, на которой и прикатил сюда, и уже рванулся навстречу Тане:
— Давайте вашу сумку.
— Не дам, — ответила Таня, крепче сжимая ручки и ловя себя на неуместной мысли: хорошо, что у нее сумка модная, нейлоновая, вся расписанная, как радуга. А почему — хорошо-то? Хорошо, и все.
— Мы можем подвезти вас. Вон какая очередь на автобус!
— Нет, я пройдусь.
— Под зеленью? Заманчиво.
Таня вскинула голову:
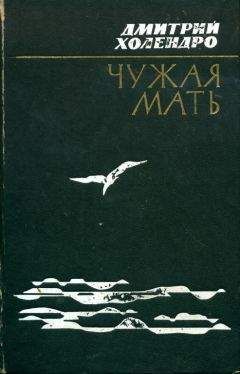

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/262305/262305.jpg)


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149595/149595.jpg)