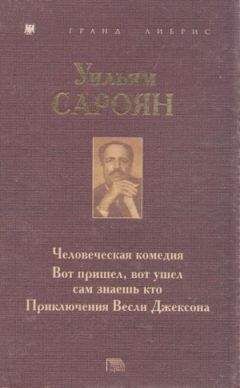Потом я взглянул на журнал, который взял с собой, – «Нью рипаблик»; в этом журнале, по словам Джо Фоксхола, были когда-то напечатаны самые замечательные в мире стихи «Ecce puer» Джемса Джойса, и я включил все это в порядок дня и заплакал о «Нью рипаблик», и о Джо Фоксхоле, и о поэзии, и о самых замечательных в мире стихах, и о Джемсе Джойсе. Но я не переставал думать о том, что осталось, я знал, что о многом еще не поплакал, – и я перешел к Вудро Вильсону и Лиге наций, потому что Клемансо плюнул ему в глаза, а Лига бездействовала. Подумать только: один человек плюнул в глаза другому, а ведь тот хотел только добра человечеству, и вот он возвращается на родину с разбитым сердцем, потому что он думал, что может сделать людям добро, а вместо этого ему плюнули в морду, и в довершение всего конгресс не захотел с ним работать! Заодно я поплакал и о Калвине Кулидже, который и мухи никогда не обидел. Но раз уж я взялся за великих людей, я знал, что слез тут не напасешься, и решил все это дело систематизировать и в первую очередь поплакать о великих государственных деятелях. Начал я с Бена Франклина, но он был всегда так удачлив и счастлив, что плакать я мог только оттого, что он умер – а мог бы прожить еще года три и изобрести радио. От Франклина я перешел к Патрику Генри, который сказал: «Свобода или смерть», ведь, кажется, до сих пор никто толком не знает, что именно он получал. Если учесть, что все до сих пор взывают о свободе, почему же он не упал и не умер на месте? Как могло случиться, что он просто встал и ушел, а через два дня произнес новую речь и провозгласил какую-то другую альтернативу, кажется, что-то вроде: «Денег или женщин».
Тут я решил, что хватит с меня государственных деятелей, и принялся плакать об Эдгаре Аллане По, оттого что он вел такую печальную, одинокую жизнь, вечно выдумывая всякие невероятные таинственные истории и сочиняя в то же время жалостные стихи юным девушкам. Я подумал, что нужно бы поплакать еще об одном каком-нибудь писателе, а потом уже можно будет перейти на преступников, и из писателей выбрал Лонгфелло – Генри Водсворта, который написал «Гайавату», и тут я заревел навзрыд, ибо «Гайавату» я ненавижу. А раз уж я очутился среди индейцев, мог ли я пройти мимо случая обронить слезу о прекрасной индейской девушке, которую капитан Джон Смит по ошибке принял за свою молодую жену, но я не мог вспомнить ее имени и поэтому поплакал о ней анонимно. Потом я заплакал о Джесси Джеймсе, грабителе поездов, оттого что грабить в конце концов невыгодно, все равно, кому бы вы ни дарили добычу: рано или поздно вас пристрелят, если вы занялись этим делом. Поплакал я и о братьях Долтон, но не мог больше вспомнить крупных преступников, кроме нескольких недавних случаев, и поэтому стал плакать о мальчике, схваченном в Сан-Франциско лет десять назад за то, что он украл какого– то несчастного грязного поросенка; он заявил властям, что хотел его взять себе вместо комнатной собачки, – и поэтому я поплакал немножко о том, что ведь это большая разница, а потом поревел и побольше, оттого что другие никакой разницы здесь не усмотрели.
Тут я заметил вдали трех коренастеньких женщин в военной форме – Виктор Тоска называл таких обрубками; они шагали по улице в ногу – ну самые настоящие солдатики, такие же воины, как и всякий другой. И я заплакал над ними оттого, что они были такие коротышки и носили военную форму, и еще оттого, что все почему-то считают, что они вполне подходят для того самого, чем не пристало заниматься порядочным девушкам и чем занимается Мэгги, то есть тем, что девушкам так или иначе предназначено от природы, и эти бедные коротышки действительно это делали, то ли на нервной почве, то ли от замешательства, или война действовала на них возбуждающе – и они только старались как можно дольше иметь дело с одними офицерами. А когда я увидел, как эти бедняжки отдают честь, слезы прямо хлынули у меня из глаз, потому что девушки не дурачились, нет, а козыряли серьезно, старательно, как будто верили, что помогают таким образом выиграть войну.
Тут я подумал, что можно бы поплакать и о малых нациях, ибо на что, собственно, может рассчитывать малая нация? И я, начал с народов островных, поплакал об Исландии, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Тасмании, Мадагаскаре, потом обо всех мелких островах Тихого океана, затем о Яве, Кубе, Гаити, Кипре и, наконец, об Эллис-Айленде – ну на что могут рассчитывать народы этих островов? Потом меня потянуло на малые нации европейского материка, такие, как Греция, Финляндия, – что станется с ними? Вслед за этим я заплакал о науке, оттого что вряд ли еще кто-нибудь плачет о ней, к я плакал обо всех этих дичающих в одиночестве людях, которые упрямо смотрят в микроскоп в надежде открыть все, что доступно познанию. А после них я заплакал и о тех частицах, которые они разглядывают в микроскоп, ибо из этих частиц складывается все на свете, и так же важно и так же естественно плакать о прыгающей молекуле, как и обо всем остальном, что прыгает.
Ну а поскольку я снизошел до мельчайших вещей, я решил, что мне нужно поплакать также и о величайших, и я пролил слезу обо всем мироздании, обо всех его неведомых тайнах – всех этих миллионах лет времени и света, – и это были самые утешительные слезы из всех.
Немного погодя я перестал плакать, высморкался и заново перечел напечатанное в «Нью рипаблик» письмо, которое я сам написал, но слез оно во мне больше не вызвало, потому что я понял, что в конце концов – не все ли равно, писатель я или нет. Итак, я стал писателем, но, кроме этих бурных слез, что я пролил, я ничем не отличался от того, каким я был раньше, жалко вот только было Вудро Вильсона, уж очень неудачно сложились у него дела.
Глава 33
Весли читает в «Нью рипаблик» письмо, которое он написал своему отцу
Вот что я написал отцу той ночью в вестибюле гостиницы и что прочел потом в «Нью рипаблик».
«Бернарду Джексону. Хотя я не знаю, где ты сейчас и дойдет ли это письмо до тебя, я решил тебе написать, потому что ты в беде и я тоже. Я никогда не считал, что должен проявлять к тебе преданность, или гордиться тобой, или что-нибудь там еще, что полагается испытывать хорошим сыновьям по отношению к своему отцу. Ты мой отец, а я твой сын, и этим все сказано, а хороший или плохой – это дело десятое. Наверное, иные люди считают тебя человеком безвольным, оттого что время от времени ты по своей привычке пускаешься в бега, как сделал это и теперь, и пьешь запоем, из-за чего бы ты ни ушел из дому. Но я-то думаю, что это не так, что не по слабости характера ты это делаешь. Мне кажется, что все это просто необходимо тебе по твоей природе.
Зачем же тогда я тебе пишу? А пишу я тебе затем, что, кажется, пора мне попробовать наверстать в своей жизни то, что упущено тобой, – помнишь, ты недавно мне говорил, что рассчитываешь в этом на меня. Много произошло с тобой в прошлую войну такого, о чем я и догадаться не могу, ибо ни один человек не может угадать, что ведомо другому, даже если он сын этого другого. Однако из того, что ты мне рассказал, я вижу, что худшее случилось не с телом твоим – физически ты по– прежнему крепче многих других, – а с тобой как человеком; не с нервами, не с разумом, не с сердцем, не с духом твоим – а с тобой, с твоим собственным “я”. Я знаю, ты чувствовал и чувствуешь до сих пор, что воина грубо над тобой надругалась, – над тобой как личностью, – ты и сейчас это чувствуешь. И мысль о том, что мне тоже придется пройти через все это, приводит тебя в ужас, ибо ты надеялся, что хоть у меня все сложится благополучно – за нас обоих. Ты рассчитывал, что у меня будет сын, чтобы было кому передать эстафету, и я тоже на это рассчитываю. Ты говорил мне, что стремился выжить в прошлой войне только ради одного: чтобы увидеть меня. Так вот, я хочу, чтоб ты знал, что я тоже решил сделать все от меня зависящее, чтобы остаться в живых и увидеть своего сына. Я думаю, ты не очень-то возмутишься, когда узнаешь, что, приняв это решение, я превратился физически в труса, потому что так оно и есть. Чтобы увидеть когда-нибудь своего собственного сына, я охотно сделаюсь трусом. Мысль о физической трусости дьявольски страшит большинство ребят в армии, но меня она не пугает. Вот если бы я вдруг обнаружил, что не желаю или не способен представить себе, что по тем или иным причинам и при известных обстоятельствах я вправе отказаться от готовности умереть, тогда бы я действительно устрашился. Я решительно не хочу быть убитым – ни за что! Честно скажу: пускай, как говорится, погибнет цивилизация, лишь бы я сам жив остался. Клянусь Богом, я уверен, что цивилизация – это я. Какого черта беспокоиться, что что-то там рушится, если я сам останусь целехонек. Я уверен, что всякий честный человек в армии думает в душе то же самое. Я знаю, я мог бы пойти на смерть, не задумываясь, – в защиту правды и справедливости, например, – но я не думаю, что, будь я убит, это помогло бы спасти цивилизацию. Это было бы просто чертовски глупо с моей стороны. Если я должен погибнуть во имя спасения цивилизации, почему же все другие не должны погибнуть вместе со мной? А раз это невозможно, то пусть я останусь в живых, или пусть погибнет цивилизация, или же, наконец, пусть введут такой общественный порядок, при котором не потребуется, чтобы ты, потом я, а потом и мой сын шли и умирали.