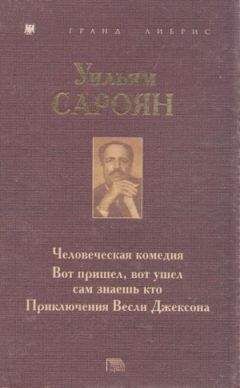– Джексон, я решил вызвать в Нью-Йорк свою девушку – умираю от тоски.
Он пошел в телефонную будку, потом вернулся и попросил буфетчика разменять десять долларов. Было около часу ночи, но в Сан-Франциско еще и вечер не наступил. Я думал, Виктор будет громко кричать по телефону, как это делают почти все, когда разговаривают на далеком расстоянии, но он говорил очень тихо. Минут через десять он вышел из будки, присел к стойке, допил двойную порцию виски и лишь после этого заговорил.
– Пиши о любви, – сказал он. – Любовь – это единственная стоящая вещь. Повторяй без конца: «Люблю». Расскажи им, Джексон, ради Бога, расскажи им о любви. Ни о чем другом не говори. Рассказывай все время повесть о любви. Это единственное, о чем стоит рассказывать. Деньги – ничто, преступление – тоже. И война – ничто, все на свете – ничто, только и есть, что любовь. Так расскажи им о ней!
Я понимал, как он влюблен, и знал, что любовь может сделать с человеком. Любовь может сделать человека великим. Ничто другое не может, только любовь. Я понимал, как худо не быть влюбленным.
– Приедет? – спросил я.
Вместо ответа он опять пошел к телефону. Проговорив еще минут десять, он вернулся ко мне и сказал:
– Да, приедет. Я поговорил с ней еще раз. По-итальянски. В первый раз я забыл это сделать, а теперь поговорил по-итальянски. Я говорил по-итальянски с ней, говорил по-итальянски с ее матерью и со своей мамой тоже поговорил по-итальянски. Они сказали, хорошо, они приедут через месяц, – но я сказал нет, и тогда они сказали: через неделю, – но я опять сказал нет, и тогда они сказали: «А когда ты хочешь, чтобы мы приехали?» И я сказал: «С первым вечерним поездом». И тогда моя девушка заплакала и сказала: «Ладно, мы сейчас уложимся и выедем с первым поездом». Так пиши же о любви. Пиши о любви без конца. Слишком тоскливо жить без любви. Обещай, что будешь писать о любви. Я-то думал, ты глуповат, да это все оттого, что у тебя был такой вид… Обещай, что будешь петь одну эту песню. Обещаешь, да?
– Ну конечно.
– Честное слово?
– Ага.
– Не думай, что я просто болтаю, – сказал Виктор. – Не думай, что я это так, спьяна. Я родился и вырос в семье, понимаешь, в семье. Ничего кроме любви мы не знали. Я хочу жить в семье, а не в армии. Одно время со мной был мой брат, но это произошло по ошибке, и они эту ошибку исправили. Не годится двум братьям служить в одной роте. А почему? Братья понимают друг друга. Братья есть братья, и они понимают. Матери и отцы, и братья и сестры, и дядья и тетки, и кузены – те понимают. У каждого должна быть семья, каждому нужно любить. Ты должен мне обещать, Джексон, потому что ты и я – мы тоже братья. Я сберег для тебя апельсины – верно? Я писал тебе, верно я говорю? Ты не итальянец, ты ирландец или еще там кто-нибудь, но все равно мы с тобой братья. Доминик понимает, он не считал тебя глупым. Это я думал так, по невежеству, – мало в школу ходил. А Доминик понимает. Он мне говорил. Он сказал мне по-итальянски. «Он тебе брат, – сказал он, – не забывай». Я получил твои письма – все. Я их берегу. Я знаю, какой ты. Ты все поймешь, когда узнаешь про йогов. Обещаешь, да?
Виктор был здорово пьян, а пьяные всегда хотят сказать больше, чем могут выразить словами. Может быть, я не совсем точно понял то, что он говорил, но, по-моему, это означало примерно следующее:
Когда моя девушка сказала, что они сейчас же уложатся и выедут с первым поездом, она понимала, почему это нужно. Причина вся в том – ты знаешь причину, никуда тут не денешься, потому что причина вся в том… – но кому охота думать о причинах? Мы с тобой братья, поэтому я тебе говорю: причина в том, что я скоро буду убит. Я это не с перепугу и не спьяна – я точно знаю, почему моя девушка, и ее мать, и моя мама должны сейчас приехать в Нью-Йорк. Тот безглазый – ему что, он не знает, он любви не видал, а у меня есть глаза, и я видел любовь, а уж если у тебя есть глаза, и ты видел любовь, и знаешь причину – если ты знаешь ужасную причину, – то время идет слишком быстро, и нужно любовь посадить на поезд, нужно заставить ее поспешить, времени мало осталось, и глазам твоим недолго осталось глядеть – любовь должна поспешить, нет времени, потому что ты знаешь, знаешь, ты хотел бы не знать, но ты знаешь.
– Обещаешь? – все твердил он, – Ты ведь понимаешь, о чем я говорю. Глупым теперь ты даже не кажешься. Я вижу, что ты все понимаешь. Обещаешь брату своему? Говори им одно: люблю! Мы больше никогда не будем толковать с тобой об этом, но обещать ты должен и должен помнить, что ты обещаешь, и должен сдержать свое обещание. Ради брата своего должен. Дай мне твою руку – и все, будем теперь пить и веселиться.
– Я постараюсь, – сказал я и пожал ему руку.
И Виктор тогда сказал:
– Я знаю, ты это сделаешь.
Между тем приближался час закрытия, и мы с Виктором заказали себе еще по одной. Выпили мы друг за друга, но вслух ничего не сказали. Мы только чокнулись и выпили по последней, залпом, до дна, и тут Виктор запел во все горло свою песню, как будто он был самым счастливым человеком на свете.
А хозяин за стойкой – ну как он мог знать, что тут происходит? Ничего он не знал. Он просто думал, что двое ребят напились в его баре – и все. Ничего тут особенного не было, и он не обращал на нас никакого внимания, а когда мы поднялись уходить, он улыбнулся и сказал:
– Спокойной ночи, ребята, заходите в другой раз.
И когда он это сказал, Виктор перестал вдруг петь и только посмотрел на него, но я знал, о чем он подумал. Он небрежно помахал старику, как это делают штатские.
– Пока, – сказал он.
Он быстро оглядел помещение, не поворачивая головы, потом подошел к телефонной будке и попытался ее обнять, но, конечно, не смог обхватить ее руками и только постоял так немного. После этого он уже ни на что не смотрел, а прямо пошел к дверям.
Всю дорогу до дому мы шли пешком, но Виктор, как и обещал, не возобновлял прежнего разговора, а только все пел. На 57-й улице, недалеко от 4-й авеню, встретилась нам старуха, в руках у нее были три розы. Услыхав, что Виктор поет, она подошла к нему. Эти старухи день и ночь бродят по улицам, продают розы и хорошо знают, что, уж если парень поет, он непременно купит розу. Она протянула розы Виктору.
– Бог тебя благословит, сынок, – сказала она. – У меня вот тоже один мальчик в армии, другой – во флоте, а третий – в морской пехоте. Бог тебя благословит, береги себя.
Это была старая грязная нищенка из тех, кого брезгливо сторонятся люди, но Виктор взглянул, широко раскинул руки и обнял ее, а она уронила голову ему на плечо, и он сказал:
– О мама, мама!
Он ее поцеловал, сначала в одну щеку, потом в другую, а старуха все повторяла:
– Бог тебя благословит, сынок.
Виктор взял одну розу и отдал старухе все деньги, какие захватил в горсть из кармана, – кучку серебра и пару кредиток. Потом мы поспешили дальше, а старуха нам вслед все приговаривала:
– Бог тебя благословит, сынок.
Мы зашли в ночное кафе выпить кофе. Виктор все любовался розой и вдыхал ее аромат.
– У тебя есть три апельсина, – сказал он, – но у меня теперь тоже есть кое-что. Вот эта роза. Я взял только одну – ведь никогда нам не хочется несколько роз, а всегда только одну розу. У меня теперь тоже есть что хранить, и я ее сберегу. Я буду хранить ее до тех пор, пока жив. Когда-нибудь апельсины испортятся, и эта роза тоже уже наполовину увяла, но я ее все равно сохраню. Что завтра вечером будем делать?
– Напьемся пьяные.
– Правильно!
– Можно пойти опять в тот же бар и…
Внезапно я понял, что говорю, и замолк.
Виктор только поглядел на меня и покачал головой.
– Пойдем лучше в театр или еще куда-нибудь, – сказал он.
– Правильно.
Глава 36
Весли и Виктор идут смотреть замечательный спектакль, который сам по себе ничем не замечателен, но становится замечательным благодаря спектаклю внутри спектакля
На следующий вечер мы пошли смотреть пьесу, которую все называли замечательной, и сели в первом ряду. Пьеса шла уже три года. Это был один из самых крупных успехов в истории американского театра. Актерский состав сменяли каждые восемь-девять месяцев, так как актеры и актрисы выдыхались, повторяя одно и то же каждый вечер. Кроме того, по всей стране разъезжали с этой пьесой бродячие труппы, – в общем мы были вполне уверены, что это действительно замечательная пьеса.
И вот занавес поднялся, и спектакль начался. Сцена представляла гостиную в богатом доме, и люди в ней были из самого лучшего общества. Через десять минут пьеса еще не стала замечательной, но, конечно, было еще рано судить. Мы надеялись, что еще какие-нибудь две-три минуты – и она все-таки станет замечательной, но и этого не случилось, и скоро мы начали сомневаться, станет ли она замечательной когда-нибудь вообще.
Она не стала замечательной и к концу первого акта, и тогда мы вышли из театра еще с несколькими зрителями, зашли в соседний бар и выпили, чтобы скрасить ожидание. Потом мы вернулись на свои места, и занавес опять поднялся, но пьеса все еще не становилась замечательной. Все на сцене говорили очень выразительно, время от времени кто-нибудь приходил в возбуждение, и перед нами проходило какое-то действие, но мы все время знали, что это игра, и ничего замечательного в этом не было.