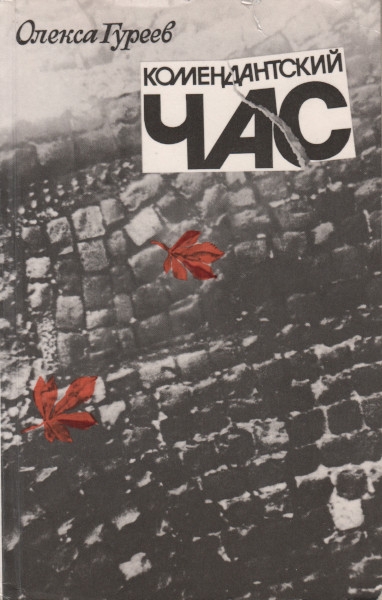это была почти официальная терминология националистической пропаганды.
Потапович разыграл из себя обиженного.
— Я попрошу вас, пан полицай, не приписывать мне того, чего нет. — Он демонстративно поднялся, отошел к окну.
— Сядьте! — спокойно, но твердо проговорил Павловский и, когда тот, повинуясь, снова сел, добавил: — Однако вы не ответили на мой вопрос.
— То есть почему я не донес немецким властям? — Скуластое помятое лицо Потаповича раскраснелось. — Не успел. Просто не успел. Уже составил список и собирался отнести его сегодня или завтра.
— Покажите.
Так же обиженно, но с вызовом Потапович достал из ящика комода лист бумаги.
— Не верите? Вот он.
Павловский не спеша просмотрел список. Иванов, Сидоренко, Пивень, Марущенко Наталья... Всего девять фамилий. Пятым в списке стоял Леонид Третьяк. Точные адреса, номера квартир, принадлежность к партии, работа в советских учреждениях. Все подготовлено для очередных безошибочных действий гестаповцев. «Я колебался, когда шел сюда, сумею ли без страха выстрелить в человека. Теперь сумею. Пасую только перед этими двумя девочками. Да, еще надо спросить о командирах Красной Армии...» Листок бумаги положил в карман.
— Извините, пан полицай, — протянул желтую в сухожильях руку Потапович, — но список прошу вернуть.
— Зачем? — Павловский совершенно естественно скривил губы. — Это же враги фюрера, а вы все еще колеблетесь — доносить на них или нет. Или, может, не доверяете представителю официального учреждения?
Потапович снова замялся, пробормотал заискивающе:
— Вы же знаете, пан полицай, что за каждого выданного активиста полагается вознагражденье...
Он сам подсказал Павловскому решение.
— А-а, понимаю. Тогда собирайтесь. Вы подтвердите, что эти люди — не фикция. Надлежащее вам вознаграждение я не присвою.
«И за двух командиров Красной Армии он тоже (наверняка) получил деньги, — подумал Павловский. — Какое же оно мерзкое, гнусное все, что противостоит советскому. Грязь и кровь. Я счастлив, безмерно счастлив тем, что остался комсомольцем, непримиримым врагом фашизма, как Валя Прилуцкая, Третьяк, Поддубный, как тысячи других киевлян. Все наше — высокое и чистое, а эти жалкие подонки — грязь и кровь».
В комнату с плачем влетела младшая девочка, прижалась к Потаповичу.
— Что случилось, рыбонька? — засюсюкал тот. — Кто обидел крошечку? Вот я ему...
— Кошка, — всхлипывая, пропищала девочка. — Я хотела покормить ее, а она укусила меня за пальчик. Болит!
— Брысь, брысь, кошка! Разве можно обижать мою ласточку? Дай поцелую пальчик, и он перестанет болеть.
Девочка протянула руку, и Потапович поцеловал ей мизинец.
— А теперь иди, рыбонька. Скажи маме, пусть покормит вас.
«Неужели этот выродок действительно донес в гестапо на командиров Красной Армии и на женщину, прятавшую их? — думал тем временем Павловский, равнодушно глядя на идиллическую сценку. Юноши, еще не ставшие отцами, неспособны на подобную сентиментальность. Когда успокоенная девчушка вышла, он сказал:
— Простите меня, пан Бровко, что подозревал вас в сочувствии большевикам. Сами понимаете, в такое время невозможно без тщательной проверки.
— Я это понимаю, — примирительно ответил Потапович.
— Что же касается вас, то мы давно убеждены в ваших самых искренних симпатиях к фюреру. Это вы доказали еще в первые дни оккупации Киева, выдав немецким властям двух скрывавшихся командиров Красной Армии. Ведь это правда?
— Сущая правда, — охотно подтвердил Потапович.
«Значит, он действительно заслуживает пули, этот предатель, — подумал Павловский, поднимаясь с места и застегивая шинель на все пуговицы, — сегодня же он и получит ее». Вслух проговорил:
— Идемте же!
— Куда?
— Разве вы забыли? Вы должны подтвердить, что люди, значащиеся в вашем списке, не фикция...
Потапович молча надел пальто, фуражку, направился к выходу, Павловский шел за ним. Молодица как раз кормила детей. На прощанье она одарила гостя нежным взглядом, будто сказала: «Такой бравый кавалерчик — и ускользает».
«А дальше? Что дальше? — подумал на улице Павловский, растерявшись, но тут же успокоил себя. — Пустяки! Выведу его на берег Днепра и столкну в воду или где-нибудь в другом месте расправлюсь. А на квартире все равно рука не поднимется — дети».
Решительно повернул к Житному рынку.
— Лукьяновка ведь в другую сторону, — напомнил Потапович.
— Мы идем в центральное управление полиции, к пану Кривенко, — уверенно сказал Павловский. — Там ждут от меня рапорт.
Это был чистейший вымысел, рожденный экспромтом. С таким же успехом он мог назвать вместо Кривенко фамилию Гиммлера или Розенберга.
Миновали Житный рынок, вышли на Красную площадь. Когда впереди показывались немцы, Павловский незаметно брался за рукоятку пистолета. «Если он попытается просить у них помощи, я сразу же пристрелю его, исполню приговор». К счастью, до этого пока еще не дошло. Однако надо кончать. Не бродить же им без конца по улицам Киева.
Вдруг он даже споткнулся от неожиданности. Навстречу шла стройная девушка в куртке из грубого шинельного сукна, блондинка, золотистые пряди волос выбивались из-под шапочки и рассыпались по плечам. Неужели Лиля Томашевич, белорусочка? Два года тому назад они вместе заканчивали десятый класс, Павловский был так влюблен в девушку, что бредил ею днями и ночами, а когда встречал ее у здания школы (всегда прибегал на уроки заранее, чтобы встретить ее), то чувствовал себя так, будто падает в пропасть — сердце замирало, немело в груди. В конце концов не выдержал, признался ей в любви, но напрасно. Девушка ответила, что собирается поступать в какой-то ленинградский институт и что переписываться им тоже не следует. «Если суждено нам быть вместе, то это случится помимо нашей воли». Павловский навсегда запомнил эту ее фразу слово в слово. Тогда он наивно вообразил: «Но ведь ты очень красива и в любое время можешь выйти замуж за другого». Она ответила: «Значит, и это произойдет по воле судьбы». Они два года не виделись, и вот эта фаталистка, милая белорусочка Лиля Томашевич идет ему навстречу... «Поговорить не сможем, только спрошу, где живет, потом наведаюсь», — подумал Павловский, и когда уже приготовился поздороваться с девушкой, Лиля Томашевич гордо, с презрением отвернулась... Его бросило в жар. Что такое? Откуда такое пренебрежение? Забыла? И вдруг все прояснилось: на нем же проклятая полицейская форма...
Сцена встречи не прошла мимо внимания Потаповича.
—