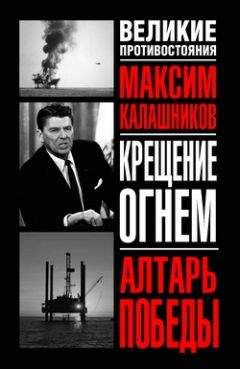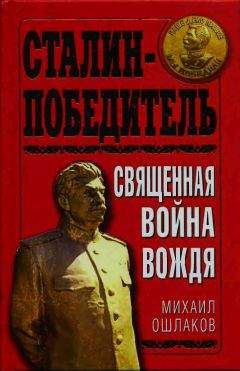* * *
Юрию Бондареву
Помним мы, как у дальнего тына,
На закате сгоревшего дня,
Умирая от жажды и дыма,
Батальоны просили огня.
Как, царапая низкое небо,
Колыхались косые штыки —
По горячему волжскому снегу
Шли в бессмертье седые полки.
Знаю, сердце для Родины милой
Отдадите вы, песней звеня,
Если выйдя из братской могилы,
Батальоны запросят огня.
Сижу — седой майор усталый,
Гляжу на белый снег в окне.
Дорог протопал я немало —
И половину — на войне.
Хотя пахал я не в пехоте,
Не бил подошвы на плацу,
Мои дороги вы найдете —
Они проходят по лицу.
На них снежок летящий тает,
Текут и слезы, и дожди.
Где их конец, никто не знает,
Не скажет, что там впереди?
Не разгадать уже шарады
На тихом склоне зимних дней.
А мне и знать‑то всего надо,
Что будет с Родиной моей?
Ивану Свистунову — североморцу, журналисту
Это самое кровное, самое личное,
Если кто‑то в газетке, ехидно кляня,
Называет
красно — коричневыми
Побратимов моих и меня.
Мы над умником этим смеемся беззлобно:
Знаем, в мире хватает обученных дураков.
Хотя, впрочем, нашли они точное слово,
Мастера всевозможнейших ярлыков.
Потому‑то сквозь смех
я спокойно и властно
Говорю в День Победы острослову тому:
Да, спасали свободу мы
под знаменем красным
И смывали с Европы
коричневую чуму.
Милый мой, не такое я слышал и видел,
И с газеткой в руках
я на новой заре
Вновь смеюсь, а душа
тихо плачет в обиде.
И рука рвется
к старой пустой кобуре.
* * *
Опять, Иван, взгрустнулось что‑то,
Давай присядем, помолчим
О буднях Северного флота,
О лодках, сгинувших в ночи.
Мы сотой доли не сказали
О нашей жизни фронтовой.
Пусть встанут вновь перед глазами
Рыбачий, Ваенга, Поной.
Из глуби страшной и студениой
Пусть выйдут недругам на страх
Иван Сивко, Борис Сафонов
В своих посмертных орденах.
Пускай они, герои флота,
Посмотрят, правильно ль живем?..
Давай присядем, вспомним хлопцев
И песню Букина споем.
ЭСКАДРИЛЬЯ «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА»
Командиром был усатый майор с украинской фамилией, оканчивающейся на «ко», — то ли Кузьмейко, то ли Кондратенко. Он был из плеяды чкаловских асов, бесстрашных и отчаянных, навеки влюбленных в небо и ставящих жен рядом, но после авиации.
По аэродрому он ходил по — хозяйски уверенно, поверх его кожаного реглана крест — накрест висели планшет и какой‑то парабеллум в деревянной кобуре, на груди болтался тяжелый «цейсовский» бинокль, за широким ремнем торчала ракетница. Вид у него был романтико — партизанский. Рассказывали, что во время боев на Халхин — Голе он однажды по тревоге выбежал из казармы в нательном белье, взлетел на своем тупоносом ястребке раньше других и завалил два японских самолета.
В разговоре со всеми, кроме командира дивизии, он называл свою эскадрилью «чертовой дюжиной». Да и на самом деле, его парни дрались, как черти. Все они, исключая более старшего командира, были молодыми и неженатыми. Крылатые сынки понимали батьку с полуслова или просто по набору авиационных жестов.
Когда оперативный дежурный звал майора к телефону, он, уже почти сорокалетний, бежал прытко и сноровисто, зычным голосом кричал в трубку:
— Командир «чертовой дюжины» слушает!..
Если это посты визуального наблюдения (ВНОС) сообщали место и курс самолетов противника, он кричал своим орлам дежурной пары:
— Колька! Петька!
При этом он крутил над головой рукой, дескать, запускай моторы, другой рукой показывал, где находится противник и курс его полета, пальцами объявлял высоту и уже через минуту — другую его отчаянные сорви — головы прямо со стоянки взлетали парой.
Командиру «чертовой дюжины» прощалось многое, он и его хлопцы задания всегда выполняли отлично, а своих потерь не имели. К августу сорок первого года у них погиб
только один лейтенант на второй день войны. Я был очевидцем этого трагического эпизода.
Немецкие «хейнкели» пришли повторно бомбить железнодорожную станцию Котовск, где грузились в поезд женщины с детьми. Наше летное поле находилось в семи километрах от станции, и мы слышали глухие взрывы.
Вторая группа бомбардировщиков пришла через час. Когда подали сигнал на взлет дежурной пары, один из летчиков, бросив недокуренную папиросу, тихо сказал нам:
— Прощайте, ребята! Посадки не будет.
Мы видели, как подпрыгивая на выбоинах колхозного поля, взлетали два истребителя и направились к «хейнкелям». Они шли цепочкой на малой высоте, и их тяжелый прерывистый гул моторов взвинчивал наши нервы.
Вдруг мы увидели, как один из «ишачков» круто развернулся и пошел прямо в лоб ведущему бомбардировщику. Оба самолета рухнули на границе аэродрома, вспыхнув гигантским факелом.
Я часто жалею, что не вел тогда никаких дневников, не записывал фамилий боевых товарищей.
Но дальним светом озаренный,
Писать я буду о войне,
Пока не вспомню поименно
Всех, кто живет еще во мне.
Однажды после встречи с группой учителей Краснодара, когда я уже собирался уходить, подошла ко мне молодая женщина и, вероятно, не надеясь на положительный ответ, застенчиво спросила:
— Вы рассказывали, что встретили войну на Украине, в городе Котовске. Случайно не знали моего родственника — летчика Фоменко?
— Васю? Василия Фоменко? — пдэеспросил я, чувствуя, как заколотилось сердце. — Ведь это… это же мой командир, на одном самолете летали в сорок первом!
Женщина изумленно и радостно заулыбалась:
— Что вы говорите?! Неужели это правда? О, как будет рада его мать! Она живет в Майкопе. А его сын Виталий
— инженер в Таганроге. Мать все время вспоминает Васю… Как ей хочется услышать, каким сын был на войне!
— Разве Вася погиб? Я ведь с ним расстался в конце сорок первого.
— Да… Матери и жене пришли похоронки.
Учительница Инна Васильевна Буланова дала мне
адрес Агриппины Ивановны Фоменко, и уже через несколько дней я был в Майкопе, у матери моего боевого друга.
Все, что я знал о нем, я несвязно, очень волнуясь, рассказал плачущей Агриппине Ивановне, а потом решил записать этот рассказ. Рассказ для его матери и для его сына. И для всех, кто видит солнце и ходит по цветущей земле.
* * *
Летать с младшим лейтенантом Василием Фоменко я начал после гибели его штурмана, высокого и красивого украинца. В самолете обнаружили всего две пулевые пробоины в верхней части штурманской остекленной кабины, и будь он ниже ростом на каких‑нибудь пять сантиметров — смерть пролетела бы мимо.
Все любилн веселого лейтенанта, умевшего собрать вокруг себя слушателей, уже заранее улыбавшихся в ожидании очередного розыгрыша. Мы хохотали друг над другом, нисколько не обижаясь, поддаваясь обаянию молодости и силы, которое он излучал. Теперь его большое тело в синем комбинизоне бессильно лежало на остывающей вечерней земле. Еще полчаса тому назад лейтенант жил, думал, отстреливался от наседавших «мессеров»… Да и сейчас ничто не напоминало о смерти, только на белом летном подшлемнике свежо, как роза, алело кровяное пятно.
Василий Фоменко, бледный, осунувшийся, нервно покусывал пожелтевшую на знойных ветрах травинку и глядел на это пятно остановившимися глазами. Казалось, он был безучастен ко всему происшедшему, а он плакал — бесслезно и беззвучно, плакал всем своим существом. Когда уже нельзя было сдержать немое отчаяние, он торопливо ушел в лесополосу, и оттуда долетел до нас сдавленный стон командира.
На следующий день, когда я пришел на стоянку и отрапортовал Фоменко, он только молча пожал руку и отошел в сторону. Механик самолета Звягинцев крупно вывел красками на борту: «За Васю Филиппова» и наносил в этот момент три восклицательных знака, очень напоминающих бомбы. Оружейник со странной фамилией Любочка, худенький, действительно похожий на девочку, поставил на землю ведерко с краской и по — уставному ответил: «Здравия желаю, товарищ младший лейтенант!».