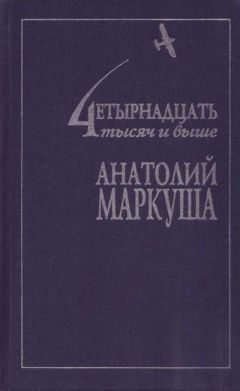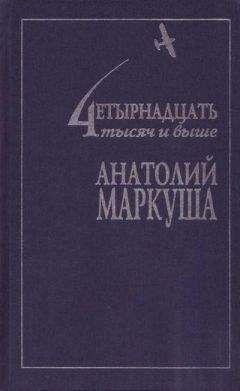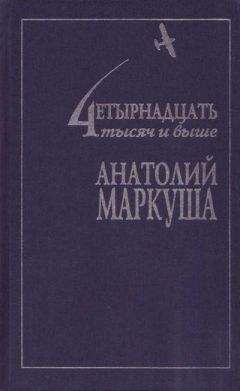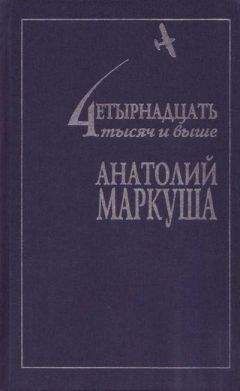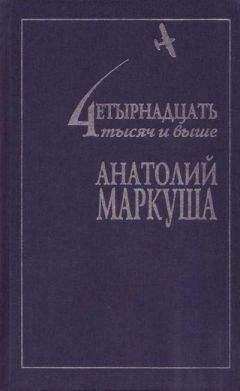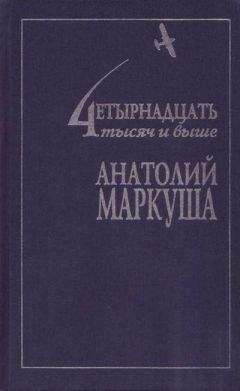На лице множественные умеренно кровоточащие кожные раны размером от 2×0,1 до 8×0,5.
На рентгенограммах определяется двойной перелом лонной и седалищной кости справа со смещением, перелом крыла левой подвздошной кости с переходом на вертлужную впадину. Медиальный перелом шейки правого бедра, сопровождающийся центральным вывихом…
Она подняла голову, поглядела в окно. Бледный сероватый снег незаметно сливался с бледным сероватым небом. Горизонт едва-едва угадывался. Подумала: «Будет трудно».
Чтобы отвлечься от боли, он приказал себе думать о давно минувшем. Вспомнил дом, в котором жил мальчишкой. Дом был трехэтажный, из темного, будто в подпалинах, кирпича. При доме был большой истоптанный двор, с двух сторон обнесенный ветхим забором, с третьей — очерченный низким рядом дровяных сараев. За сараями росли старые ветлы — любимое прибежище всех дворовых ребят и постоянное место птичьих собраний. И еще он вспомнил, что тогда в городе жили не только воробьи и голуби, но водились еще и вороны, постоянно враждовавшие с сороками, а по веснам залетали грачи.
И лошадей в городе было куда больше, чем автомобилей.
Дом их стоял на окраине. Недалеко от знаменитой Косой горы. Говорили, что Косая гора была когда-то, в незапамятные времена, гнездом разбойничьей шайки, державшей в трепете всю округу. Но в это никто из ребят всерьез не верил, и на Косую гору лазали безбоязненно. Летом на горе учиняли всякие военные игры, зимой катались на лыжах.
Первых своих лыж Виктор не помнил, ему казалось, что на лыжах он ходил всегда.
В те годы слова «слалом» не существовало, во всяком случае, он, Виктор, такого не слышал, но это вовсе не мешало окрестным мальчишкам скатываться с самых отчаянных круч, расписывая склоны такими узорами самодельных лыжонок, что не каждому нынешнему перворазряднику под силу.
Косая гора была коварной горой: ее долгий, на вид совсем мирный склон щетинился старыми дубовыми пнями. Налететь на пенек значило наверняка остаться без лыж. Без лыж — как минимум!
Стоило Хабарову вспомнить о предательских дубовых пнях, и далекая картина детства разом сузилась: общий план уступил место среднему, средний — крупному. И он увидел перекошенное лицо Сеньки Фирсова. (Сенька был его лучшим другом.) Растрепанный, сползший набекрень треух, нос пуговицей, бегающие возбужденные глаза и нервно артикулирующий рот четко обозначились на экране памяти.
— Витька, на Косухе… лыжник… запоролся. Городской!
— Чего?
— Лыжник запоролся… Кровищи!.. Насмерть запоролся… совсем, концы… отдал.
— А не врешь?
— Вот не сойти с места, если вру.
— Сам видел?
— Его не видел, а карету… «Скорую» видел. В больницу повезли.
— Айда.
Они бежали по дороге, освещенной ярким, предвесенним солнцем, и голубоватый зернистый снег слепил глаза. Бежали полураздетые, захлебываясь горячим, трудным дыханием. На месте происшествия любопытных почти не осталось. Половина лыжного следа была затоптана. Но та часть, что осталась, виднелась отчетливо. След свидетельствовал: неизвестный лыжник начал спуск с самой вершины Косой горы. Четко маневрируя, миновал трудный участок, поросший крупными старыми деревьями, и, набрав скорость, вылетел на долгий спуск. Он благополучно обошел первые пни, рискованно вильнул вправо, видимо, рассчитывая спуститься к дороге пологим полувитком длинной спирали, но налетел на кочку. Его подбросило и развернуло влево (на снегу был виден четкий зубец). И тут прямо перед лыжником оказался старый пень. Лыжник выкинул левую руку вперед, вогнал палку глубоко в снег и начал поворот в упоре.
О том, что произошло в следующее мгновение, очевидцы рассказывали по-разному, но скорее всего у парня соскользнула рука с упора, а может быть, оборвалась петля, но так или иначе он напоролся на собственную бамбуковую палку, и палка проткнула его. Очевидцы божились — через живот насквозь.
Виктор увидел алые пятна на снегу. Кругом все-все было истоптано, а там, где замерзшими кляксами краснела кровь, снег остался нетронутым.
Вечером мать спросила у Виктора:
— Говорят, на горе случилось какое-то несчастье? И он с удовольствием рассказал Анне Мироновне обо всем, что видел сам, слышал от других, — обо всем, что успел досочинить в своем мальчишеском воображении. Против ожидания мать не разохалась и не распорядилась подобно Сенькиной матери: «Чтобы духу твоего больше на этой проклятой горе не было. Увижу — истоплю лыжи в печке». Нет. Анна Мироновна довольно спокойно спросила:
— Страшно было?
— Кому?
— Тебе.
— А мне чего? Не я же там съезжал…
— Но и ты ведь там ездишь?
— Нет. Там я не езжу. — И в этот момент Виктор понял: он должен съехать именно там — от старого дуплистого дуба на вершине напрямую до раздвоенной рябины, развернуться вправо и чуть выше пеньков проскочить по склону, плавно сбегающему к самой дороге. Он ничего не сказал матери, но решил твердо — должен.
Почему должен? А черт, его знает почему. Должен — и все, и точка.
Отвлекаясь от далеких воспоминаний детства, Виктор Михайлович подумал: «И чего, собственно, мы так стараемся отвечать на все «почему»? Разве нет в жизни вопросов, на которые невозможно ответить?»
Почему, например, он не влюбился в свое время в милую, хорошенькую, простодушно-наивную Люську, а «врезался» по самые уши в большеротую, шумную и строптивую Галю?
Почему он с подозрением отнесся к Алексею Ивановичу Углову в первый же день знакомства, когда не мог еще сказать о нем решительно ничего: ни плохого, ни хорошего?
Почему он взялся лететь за Аснером на этой чертовой керосинке и теперь, вместо того чтобы спокойно сидеть дома и читать «Зеленые холмы Африки», вынужден валяться здесь с переломанными ногами и избитым телом?..
Но тут Хабаров скомандовал себе: «Стоп!» Думать об аварии пока еще нельзя. И о сломанных костях — тоже нельзя. Лежать на жесткой кровати было неудобно, и все тело ныло, и лицо саднило… А кто виноват? Никто. Так уж случилось… Но об этом потом, позже…
Усилием воли он заставил себя вернуться на Косую гору.
Как это было?
Он стоял на самой вершине у старого дуплистого дуба. Все, что лежало ниже его ног, казалось не чисто белым, а будто бы припудренным легким налетом пепла. Все, что было выше его ног, рисовалось черным, темно-серым и просто серыми цветами. Виктор проверил крепление и поправил ремень на левой лыже. Он насадил пониже на лоб шапку и глянул вниз.
За ночь чужого следа не замело. След только чуточку осел, и края его стушевались, стали мягче, плавнее. Виктор вытянул шею, но отсюда, с верхотуры, не увидел ни пеньков, ни красных клякс на снегу.
Ему показалось, что над горой потянуло ветерком. Сделалось вдруг холодно — сначала щекам, потом спине. Поглядел на кустарник — ни одна, даже самая тоненькая, веточка не колыхалась. И тогда он понял — боится. Просто боится. Прежде чем Виктор успел обругать себя или найти какое-нибудь приличное оправдание страху, перед глазами возникла картина, которой он никогда не видел: на гигантской булавке с головкой-шариком корчится человек, корчится, как гусеница. Видение появилось и сразу исчезло…
Холод волной прошел по телу, а следом накатила другая волна — горячая. И Виктор почувствовал, как покрывается липкой, отвратительной испариной. Чем бы кончились его переживания, сказать трудно. Неожиданно Виктор заметил поднимавшихся по далекому склону ребят. Их было трое. Подумал: «Видели». И сразу решил: «Узнают». Что именно они могли узнать и как, об этом Виктор размышлять не стал.
— Ну! — скомандовал сам себе и толкнулся палками.
Спуск подхватил и понес. Притормаживая лыжами, поставленными «плугом», низко приседая и всем существом заботясь о том, чтобы не слишком разогнать скорость, он спустился до раздвоенной рябины и сразу отвернул вправо. Чужой след бежал немного ниже.
«Хорошо», — подумал Виктор и тут же увидел пеньки.
Черные, в белых папахах пеньки смотрели на него зловеще и пристально. Он забрал чуть выше и еще притормозил. След оборвался. Мелькнула широкая полоса истоптанного снега, но красных пятен он не заметил, только подумал: «Тут», — и сразу же с облегчением: «Пронесло!..» Виктор распрямил ноги наполовину и, набирая скорость, уверенно полетел вниз. Перед самой дорогой шикарно развернулся и остановился.
Виктор слышал, как тяжело торкалось сердце, колотясь в груди, в шее, в запястьях, будто весь он превратился в одно громадное сердце. Горели щеки и уши. Во всем его существе звучал какой-то нелепо-стремительный, подпрыгивающий плясовой мотив. И тогда, не давая радости захлестнуть его с головой, приказал себе: «Еще!» — и снова полез на вершину.
Раз за разом скатывался он с горы, все увеличивая и увеличивая скорость и, наконец, миновав раздвоенную рябину, выкинул вперед левую руку, сильно воткнул палку в снег и выполнил поворот в упоре…