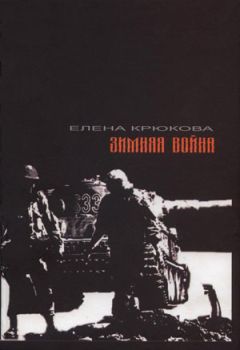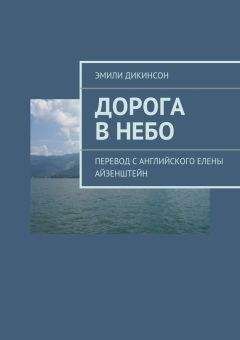— Ты счастлив — что испытал ЭТО — при жизни?..
Его голос, хриплый, тяжелый, прорезал ночную тьму, как стальной брошенный нож.
— Счастлив.
— Ты согласна?
Сначала молчанье. Потом кивок. Дети — мальчик и девочка — двое — у ее ног — сопят, возятся, тоже молча.
— Отлично. Алекс, несите сюда мужское обмундированье. Оденьте ее как мальчишку.
Она бойко, ловко раздевалась при мужчинах. Она влезала в военную форму молча, безропотно, по-мышоночьи взглядывая на больших страшных военных мужиков, свистя заложенным на горном зимнем ветру носом. Ей всунули в руку маленький револьвер, другой, побольше и потяжелей, прицепили к ремню в увесистой кобуре.
— Это кольт, Женевьева. Хороший, добрый кольт. Ты умеешь обращаться с оружьем? Ты сможешь выстрелить? Тебя поучить? Василий, нарисуй на двери мишень…
— Не надо. Я сумею выстрелить. Не надо.
Она стояла перед мужиками, маленький солдатик Зимней Войны. Сейчас ей постригут волосы. О, не стригите, пожалуйста! Хорошо. Мы уложим тебе волосы под сетку, потом под пилотку. Никто не узнает, что ты… Я умею свистеть в два пальца, в четыре пальца и в кольцо. Она свистнула. Мужики рассмеялись. Отлично, ты совсем пацан. Ты солдат большого, важного Генерала. Тебя сейчас отправляют лазутчиком в чужую Ставку. Погляди на детей. Попрощайся с ними. Убей Генерала. Ты остановишь весь этот надоевший ужас. Некому будет отдавать приказы. Пока ищут замену — государства сядут за стол переговоров. Нам важно наделать паники, чтобы дурацкие государства этой вечно воюющей планеты наконец-то могли поговорить друг с другом за одним большим столом. И тогда ты будешь за столом хозяйкой, Женевьева. Ты нальешь нам вина. Ты отрежешь нам пирога. Дымящегося, доброго пирога, с утиной печенкой, с потрохами, с капустой. А может быть, с рыбой. С жирной сибирской рыбой — с тайменем, с хариусом. Со сладким байкальским ленком. Где ты живешь с детьми?.. В Бурятии?.. На склонах Хамар-Дабана?.. Мои дети играют кедровыми шишками. Если я убью Генерала, вы отдадите мне Юргенса, и мы уйдем с ним навсегда к Луне?.. Уйдешь, уйдешь. Вон она, Луна. Висит. Над ночью, над степью. Над метелями плоскогорий. Огромная и синяя. Что твой сапфир.
Когда ее погрузили в самолет, она молилась Луне: Луна, сделай так, чтобы моих детей не убили. Чтобы мой муж, Юргенс, остался жив. А я пусть умру. Во мне ли дело. Я маленький мышоночек. Я только и умела, что петь в церкви. Да и то пискляво. Монетку мне давали. А теперь я должна убить страшного, великого Генерала. Он уже убил много людей. Много русских людей. Я выстрелю в живого человека. Я же православная, я крестилась, и мне священник шептал: не убий. А я убью. Во благо?! Где благо?! Дай мне умереть, Господи. Зачем на Войне убивают. Я убью, и оттого моих детей, Сандро и Урсулочку, не убьют. Вот как все связано. Люди пугают друг друга. Люди убивают друг друга. А должны бы друг другу молиться, как молятся Богу.
Люк под ее ногами распахнулся, и чья-то жесткая властная рука толкнула ее в спину. Она задохнулась, обернулась, чуть не умерла от страха, уперлась, как бычок: не прыгну!.. страшно!.. Рука толкнула ее грубее, ударила по лопаткам. Она камнем свалилась в люк. Зимняя земля неслась перед ней, широкая снежная степь расстилалась внизу, мелькали по горизонту снеговые зубцы, мохнатые горные склоны, и рыжая тайга, коварная голодная рысь, вздыбливала линючую зимнюю шерсть. «Дерни кольцо, дура!» — заорали ей из самолета, сверху. Она, слепая от ветра, метели и ужаса, нащупала на груди кольцо, дернула что есть силы. Паденье замедлилось, и она летела вниз плавно, торжественно, озирая холодные пространства, издырявленные Войной, окровяненные живой кровью людей и белой, бесконечно сочащейся кровью ведьмы-вьюги. Легкая, невесомая, она плавно опустилась на зазвеневшую от мороза, стылую землю. Ей сказали, в какой стороне Ставка. Она все запомнила. Она отстегнула парашютный шелк, выпросталась из постромок, как лошадь из стреноги. Ощупав в кармане и на бедре оба револьвера, она безошибочно пошла, побрела туда, куда надо.
— Ты… мальчишка!.. Откуда ты взялся…
Человек с твердым, будто высеченным из коричнево-красного гранита, холодным лицом, вмиг вспотевшим от внезапного страха, говорил на языке, которого она не знала. И не узнает никогда.
Она стояла перед мужчиной, облаченным в ночной шелковый халат; он укладывался спать, он готовился ко сну, он только что неплохо, отменно поужинал — на столе, рядом с роскошно устланной кроватью, на тарелках и фарфоровых блюдцах лежали недоеденные круги ананасов, валялись куриные косточки, бутерброд с красной икрой, краснела пахучая мандаринная шкурка. Бутылка была выпита наполовину. Хорошее вино, должно быть. Ее Юргенс любил хорошее вино. Только они были бедные, и у них не было денег, чтоб покупать себе хорошее вино. А потом она была все время беременна. Сначала один ребенок в животе, потом другой. Тут уж не до вина.
— Простите, Генерал, — сказала она тоненько, по-русски, и рука ее скользнула к тяжелой кобуре на боку, ощупав все кожаные выступы, нашарив застежки и кнопки, — я сейчас влеплю вам пулю в лоб. Не знаю, как у меня это получится. Как выйдет, так и выйдет.
Бедный, он не успел опомниться. Она выдернула из кобуры револьвер прежде, чем он метнулся к креслу, где лежали, стремительно скинутые и брошенные, его френч и галифе, и стал ковыряться в складках одежды, пытаясь выхватить именное генеральское оружье. Мальчишка, и блекочет по-чужому. Враг! Кто пропустил?! Ставка охраняется надежно. Загражденье под током! Это наважденье! Это черт знает что! Щенок стоит уже с револьвером в руке, а ручонка-то у него трясется, и целит ему прямо между глаз. Ого, каких огольцов стали эти русские на Войну забирать. Просто от сиськи матери отнимают — и в минные поля. И в горы, под обстрелы. Откуда этот червяк тут?!
— Ты… кто ты?!.. опусти револьвер!..
Она поняла эти чужие, лающие слова.
— Не опущу. Молись, мужик. Бог-то ведь у тебя тоже есть. Ты живые души загубил! Ты будешь еще губить! Если я тебя не… — Мальчишка, похожий на мышонка, зажмурился, тряхнул головой, и тут пилотка скатилась у него со лба, и на плечи хлынули волосы, русые, белые, белесые, болотные, русалочьи, и Генерал, тупо уставясь на жуткое чудо, выдохнул:
— О-о-о-о… девица… женщина?!..
Протянул руки, защищаясь. Шестое чувство подсказало: она женщина, бей на жалость.
— Пощади… у меня… дети!.. я… отец… отец…
Он бил себя пальцем в грудь, бормотал: «отец, отец», - в то время как она продолжала держать револьвер, уже в обе руки взяв его, тяжелый, и он прыгал в ее руках, ходил ходуном, подскакивал, черный, страшный кус холодного, как гранит на вершине гольца, смертоносного металла. Она поняла, что он жалуется, что просит, молит. Она ощутила власть человека над человеком — тяжелую власть смерти, когда ее волей ты можешь диктовать и повелевать, просить и миловать, и ею же казнить, и ею же искупать свою вину, и проклинать тоже ею одной. Она закусила губу. Руки выше взметнули черную стальную болванку.
— Я не понимаю, что ты такое тут бормочешь. Не лебези, — хрипло сказала маленькая Женевьева, крещеная в православье девочка с примесью еле слышной бурятской крови, гуранка, сибирячка, сомнамбула, серебряной нитью привязанная к Луне. — Если это молитва — считай, что ты уже помолился. На!
Она зажмурилась от натуги, нажала на собачку и спустила курок. Человек в атласном халате, в последней панике — жить! жить во что бы то ни стало!.. — мотнул головой вбок, и первая пуля прошила штору, застряла в оконной раме. Генерал рухнул рядом с креслом, Женевьева подскочила к нему, снова прицелилась, он взмахнул руками, подкатился ей под ноги, схватил ее за щиколотки, за болотные сапоги, повалил на пол. Она больно ударилась об пол коленями и локтями, не выпустив из рук револьвер. Что ж ты какая растяпа, девчонка. Сейчас он тебя поборет. Он же, мужик, выше тебя вдвое. Сильнее вдесятеро. Он прихлопнет тебя, как комара в тайге. Ну же. Ну.
Она извернулась. Дернулась. Сапоги остались в его скрюченных руках, в кулаках. Босая, она наклонилась над ним и опять выстрелила, и оглохла от грома выстрела, и засмеялась: удалось!.. — и заплакала, увидев, как на полу, на струганных желтых досках, расплываются размозженные внутренности его черепа — то, что было когда-то живым, мыслило, страдало. Ее вырвало прямо на труп, на растекшуюся по полу лужу крови. Кольт вывалился из ее рук и упал в кровь. Она спохватилась, утерла рот ладонью, наклонилась, дрожащими руками подняла револьвер, отерла рукавом пятнистой гимнастерки. Там еще есть патроны. Она отстреляется, если что.
За дверью Генеральской спальни зашумели, забряцали шаги, загудели голоса. Все. Дело сделано, Женевьева. Твой Юргенс, солдат, подивился бы на тебя. Ты убила человека. Ни в какой церкви ты теперь это никогда не отмолишь. И Война не закончится оттого, что ты важного дядьку убила наповал. Никогда ничто не заканчивалось от убийства. Все только начиналось.