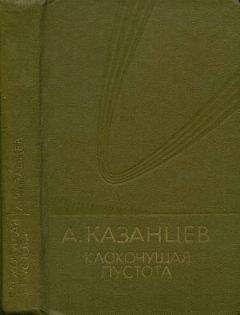Родина встретила ее неприветливо. Она делила судьбу наравне со всеми. Сидела по несколько месяцев в тюрьмах Смоленска и Орла, Минска и Орши. Но есть что-то в нашем влечении к родине такое, что не поддается ни логике, ни анализу нашего ума…
Брезжит рассвет. Где-то далеко кричат петухи. Начинает просыпаться и город. Скоро можно будет двинуться на поиски друзей. Я вхожу в здание вокзала и, пристроившись около похрапывающих спутников, сидя на рюкзаке, стараюсь заснуть. В полусне чувствую большую, светлую радость, так, как это бывало в детстве, когда, полупроснувшись, стараешься вспомнить, — что же это за особенный день сегодня?.. Что за праздник, от которого так тепло на душе?..
Сегодня воскресный день. Выйдя с вокзала, я вижу с той стороны Днепра, на площади большую толпу, сотни людей, передвигающихся по всем направлениям, — базарный день. Видны яркие цветные платья девушек, снующая между взрослыми детвора. В стороне стоят запряженные лошадьми телеги. Это крестьяне привезли на базар то, что у них осталось после обязательной и более или менее грабительской дани «освободителю» — германской армии.
Перейдя через виадук, я смешиваюсь с толпой, стараясь пробраться в самую ее середину, и почти физически чувствую, что долгие годы скитания кончились сейчас, вот в этот момент, — я дома. Это родина.
От массы впечатлений последних дней, самых ярких и светлых в жизни, нервы напряжены до отказа. Я с особой остротой воспринимаю каждую мелочь, в память на долгие годы врежется каждая деталь, — мелькающие со всех сторон лица, необычайная для европейского глаза убогость одежды, глаза, которые не останавливаются на мне, а так же, как и по всем прохожим, скользят мимо, а главное — многозвучная симфония русского языка, который слышится со всех сторон сразу. Каждое слышимое слово, обрывок фразы, восклицание кажутся полными большого значения, и я чувствую себя участником, по меньшей мере, десятка чьих-то разговоров и бесед. В толпе, говорящей на иностранном языке, сознание улавливает лишь слова, относящиеся непосредственно только к вам. Здесь каждое услышанное остается в памяти.
До слез режет глаза неописуемая убогость принесенных на рынок для продажи и обмена «товаров». Вот пожилая женщина со скорбным иконописным лицом. Сидит на деревянной табуреточке, значит неслучайный посетитель рынка, а, вероятно, постоянный его участник. На платке, разложенном у ее ног, полдюжины старых костяных пуговиц, видно, споротых с отжившего свой век пальто, покрытый зеленой плесенью медный подсвечник и коробка спичек немецкого происхождения.
Рядом другая. У этой два заржавевших замка с ключами к ним, на веревочках, — «хорошие, еще старорежимной работы» — рекомендует продавщица, обращаясь к остановившемуся перед ней крестьянину. Пара самодельных свечей, кусок темного, как земля, мыла и тоже две коробки спичек. И так дальше, целый ряд, — ни одной новой вещи, а только такие, какие на всем земном шаре, кроме Советского Союза, можно найти на любом свалочном месте.
Пусть жестока немецкая оккупация, но где-нибудь во Франции, Бельгии, Югославии этот «товар» не вынесли бы на базар, продолжайся она хоть двадцать лет. А здесь торгуют, и на всё это находятся покупатели. Вот пожилой мужчина, по виду он мог бы быть учителем или старым чиновником, застенчиво поторговавшись, бережно опускает в карман купленную пару пуговиц, вон и крестьянин решился, наконец, на покупку замка. Эта нищета и убогость остались от «счастливой и зажиточной жизни» при советском строе. Самое большое оживление в ряду напротив. Стоя и сидя на корточках, расположились торговцы табаком — самосадом-махоркой. Перед каждым довольно объемистый, килограммов на двадцать, мешок из грубой холстины, в руках стакан или кружка — мера, которой продается табак. Покупатели, перед тем как купить стакан-два табаку, долго переходят от одного к другому. Прицениваются, пробуют запах, влажность и, как правило, на предложение купца заворачивают козью ножку для пробы.
Между торговцами «с местом» и слоняющимися любопытными и покупателями снуют юркие мальчуганы и на все голоса скороговоркой предлагают свой товар, помещающийся обычно в кармане. Это тоже, главным образом, спички, иногда пачка немецких сигарет, два-три камешка для зажигалки или, не обязательно новые, шнурки для ботинок… Родина, до чего тебя довели!
Потолкавшись в толпе, поговорив с торговцами, любезности каждого из них хватило бы на хорошо оборудованный средней величины магазин в Европе, купив стакан табаку, который, как и другие покупатели, ссыпаю прямо в карман, и набравшись ярчайших и незабываемых впечатлений, подхожу к пожилому человеку, по виду рабочему, стоящему одиноко в сторонке, и спрашиваю, как мне пройти на улицу декабристов.
— Декабристов? так это же бывшая, при советах ее так звали, а сейчас она называется Никольская, так, как и раньше, — с готовностью отзывается он. — Сейчас я вам объясню, как туда добраться быстрее всего и легче всего. Начинается любезнейшее, долгое и крайне подробное объяснение, с чисто русской манерой исполнения этой уличной вежливости — «…направо будет широкая улица, погорелый дом на углу, там раньше редакция газеты была, дом сгорел во время еще первого немецкого налета, так вы в эту улицу не входите, а заворачивайте за угол налево, а оттуда вам уже рукой подать…».
Я слушаю музыку этих слов, полных какого-то душевного радушия и любовного внимания, и кажется, готов разговаривать с ним часами: расспрашивать, как выглядел сгоревший дом, и когда он был построен, и куда я попаду, если на том углу поверну не налево, а направо…
Кончает мой собеседник довольно неожиданно и тоже чисто по-русски: — Да я вам сам покажу. Мне надо идти почти в ту же сторону. Небольшой крюк сделать не великое дело, а оно вернее, что не заблудитесь.
Я его благодарю, предлагаю последнюю, оставшуюся из Берлина сигарету, от которой он отмахивается обеими руками — «ах, что вы, что вы… Оставьте, это же целое состояние по теперешним временам…». Но потом все-таки берет, закуривает, и мы двигаемся в путь вместе.
Руководителем наших кадров, переброшенных за эти два года в Россию, является Георгий Сергеевич Околович, мой давнишний друг по Белграду. Он организатор и руководитель так называемой закрытой работы. В 1938 году, когда организация через несколько европейских границ, которые приходилось пересекать нелегально, проложила тропу к родным рубежам, он с первыми пошел в Россию. После его возвращения подготовленные им пошли десятки других. Человек он больших организаторских способностей, практического ума и, кажется, совершенно лишенный чувства страха. Я знаю, что сейчас он работает в городском самоуправлении… Его, в первую голову, мне и нужно найти. Советская пропаганда годами внушала народу, что война, — а она всегда считалась неминуемой, — будет вестись на неприятельской земле. «Разобьем врага на его собственной территории», как сказал когда-то Ворошилов, лежало в основе воспитания армии. Вместе с залихватским бахвальством в этой фразе был скрыт и серьезный глубокий расчет. Красная Армия воспитывалась всегда как сила наступающая, агрессивная. Сталин тешил себя надеждой, что момент удара по капиталистическому окружению выберет он. Перед столкновением с Германией он вместе с Гитлером поделил Польшу, захватил Эстонию, Латвию и Литву, отнял у Румынии Бессарабию и Буковину, подвинул на запад границы Финляндии и, таким образом, окружил границы Советского Союза кольцом новоприобретенных земель. На площади этого кольца, в худшем случае, и должно было произойти решающее столкновение.
Желание не допустить врага до областей Советского Союза диктовалось целым рядом соображений, и едва ли не главным из них было — не показать миру убожества жизни уже при построенном, как официально было объявлено, социализме.
Из этих расчетов, как известно, не вышло ничего. День начала войны был выбран Гитлером. Защитное кольцо оказалось пройденным немецкими армиями в течение первых двух-трех недель, а местами еще и раньше. После этого фронт покатился по просторам, которые четверть века цвели под мудрым водительством коммунистического интернационала.
В панике убегая все дальше и дальше на восток от катившихся почти беспрепятственно вперед гитлеровских танковых дивизий, большевики перед своим бегством уничтожали всё, что можно было уничтожить. Были созданы особые части НКВД и перед ними поставлена была единственная задача — уничтожать всё, что оставалось по эту сторону фронта. Сжигались фабрики и заводы, — это можно было понять, чтобы не достались врагу, который мог бы их заставить работать на свое вооружение. Взрывались железнодорожные мосты, станции и паровозные депо, где позволяло время и самое железнодорожное полотно, — это понятно тоже, чтобы не дать возможности противнику воспользоваться транспортом. Минировались и сжигались города, уничтожались или отравлялись ядами запасы продовольствия, предназначенные для населения. В угаре войны, в атмосфере молниеносного и позорного поражения, быть может, можно было понять и это. Города могли стать опорными пунктами вражеской армии, а запасы продовольствия использованы для ее пропитания. Но это было не всё. Перед катившимся на восток фронтом полыхали деревни, горели сельские школы и амбулатории, убогие крестьянские хатенки и стога прошлогодней соломы.