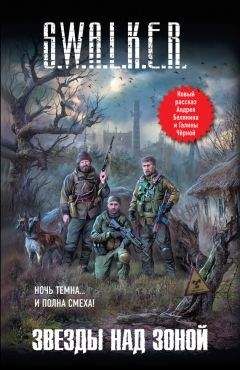— Ну я пойду, Михал Михалыч… — Голос Тимоши дрогнул. Он нерешительно закинул автомат за плечо.
— Пестряков ничего не знает?
— Ничего. — Тимоша помедлил с уходом.
— Нужно было ему тоже рассказать. И дать Фросин адрес. На всякий случай. — Черемных говорил медленно, как бы все время прислушиваясь к своим словам: — Сам понимаешь. Из меня душеприказчик плохой. Исповедоваться передо мной — все равно что самому себе вслух повиниться. Ты Пестрякову скажи. Все-таки он ближе к жизни. А тебе, чтобы сердце облегчить, нужно все рассказать живому человеку.
— И ему расскажу! Но я не потому вас выбрал, что… — Тимоше и в голову не приходило, что Черемных может так объяснить обращение к нему, и эта внезапная мысль повергла Тимошу в смятение. — Вы своим Сергейкой разбередили душу. Слышите, Михал Михалыч?
— Слышу.
— А верите?
— Верю, Тимоша. Говорю, как солдат солдату.
— Вам ничего не нужно?
— Ничего.
— Ну тогда бывайте.
Тимоша погасил плошку, ловко, как это делал всегда, вылез наверх и бесшумно ушел.
Михал Михалыч, сколько ни вслушивался, не услышал ни шагов его, ни скрипа калитки.
Сейчас, после слов Тимоши, впервые Черемных представил себе, как он на костылях приковылял домой, а Стеша прячет глаза, полные слез, чтобы он не подумал, что это слезы печали, ведь это слезы радости.
Вспомнилась история, которую рассказал кто-то из танкистов соседнего экипажа. Вернулся домой танкист, который горел в машине, с обезображенным лицом — все в шрамах, в рубцах. Жена от него, от урода, ушла, а молоденькая девушка, санитарка госпиталя, которая его выходила, полюбила. Вышла замуж и родила ему девочку, да такую красавицу! Она и сама, та санитарка, прехорошенькая, а танкист-погорелец в свое время писаным красавцем был, хоть девушка его таким не застала и даже представить себе не могла, как он выглядел. А танкист тот, рассказывали, все не мог на свою дочку наглядеться и все удивлялся, как у него, безобразного страшилища, и вдруг родилась такая красоточка — синеглазый ангелочек с шелковыми кудрями. Будто шрамы, рубцы, все увечья от ожогов и в самом деле могли перейти по наследству!..
Какое это счастье — твердо быть уверенным в жене, знать, что, каким бы он ни вернулся, Стеша примет его с нежной преданностью, и этой преданности хватит на самую долгую и трудную жизнь.
Вначале физические страдания подорвали у Черемных, приговоренного к лежанию на кушетке, всякую веру в спасение.
В последующие дни он примирился с тем, что если выживет, то останется безногим калекой.
А сегодня у Черемных впервые затеплилась надежда на счастливый исход — признаков гангрены, которой можно ждать, не было. И жар как будто спал. И боль унялась. Может, в самом деле помогли медикаменты, перевязки Пестрякова и шнапс, которым он промывал раны?
И какое все-таки счастье, что боль, неотступная и ненасытная боль, так и не стала последней, что он не утратил способности терпеть. У него теперь достанет сил все, все, все перенести, только бы не разминуться с жизнью!
Черемных пожаловался, что у него снова начали мерзнуть ноги, а Тимоша шумно тому обрадовался:
— Ноги мерзнут? Очень хорошо! Замечательно!!! Значит, жизнь чувствуют.
Черемных боялся довериться радостному предчувствию, но чем отчетливее восстанавливалось ощущение бытия, его принадлежность к жизни, которая вновь обретала будущее, тем он все больше стыдился своего давешнего поведения.
«Не доживу! Не дотяну! Не увижу!!!» — передразнивал себя Черемных, стыдясь своего поведения и бесконечно счастливый тем, что ему приходится стесняться былого малодушия, что у него появились для этого серьезные основания.
42
Грохот ящика, отодвинутого от оконца, прервал полузабытье, в котором находился Черемных.
Он схватился за парабеллум, но тут же увидел хорошо знакомые, со сбитыми набойками и прохудившимися подметками сапоги Пестрякова. С подоконника свесились короткие голенища сапог, а вслед за ними показалась перекошенная спина их долговязого владельца в шинели с задранными полами.
Что-то случилось, если Пестряков забыл об установленном им же самим сигнале — три удара прикладом о ящик.
Вслед за Пестряковым в подвал со всегдашней ловкостью, но на этот раз очень шумно спрыгнул Тимоша.
И оба на сей раз не осторожничали, никто не торопился закрыть оконце.
— Михал Михалыч, наши! — сообщил Пестряков радостно, — Танки за мостом гуляют.
Он, как все, разучился за эти дни громко разговаривать, а сейчас наслаждался возможностью говорить не таясь. Ах, друзья- товарищи и не подозревают, наверное, как трудно было все время умерять свой голос человеку, который сам плохо слышит; ведь недаром глухие — первые крикуны…
Ну а Тимоша? Он кружился по подвалу, топоча сапогами, пританцовывал, орал что-то несусветное и ругался последними словами. Тимоша уже совсем иначе, чем прежде, осматривался в подвале, он мысленно прощался с ним навсегда.
— Не ошибаешься, Пестряков? — Черемных боялся довериться столь счастливой новости, он тоже отказался от шепота.
— Что же я, свои танки не признал? — громогласно обиделся Пестряков.
— Фрицы ведут отсечный огонь из минометов. — Тимоша спешил показать свою осведомленность. — Наши жмут!
— Ну, Михал Михалыч, держись! — Пестряков все еще не мог отдышаться.
— Неужели близко?
Черемных порывисто приподнялся на локтях. В эту минуту он совсем не чувствовал боли.
— От нас тоже зависит. — Пестряков озабоченно потеребил ус. — Сидеть сложа руки? Этого Гитлер — ревматизм его возьми! — от меня не дождется! Ну-ка, Тимошка, айда на НП!
И Пестряков первый, как всегда неуклюже, вылез из подвала. Тимоша расторопно последовал за ним.
Оба прошмыгнули мимо сарая, пробрались во двор соседнего углового дома.
Они стояли, принюхиваясь к ветру, — дует в сторону перекрестка.
«Ветерок подходящий, — отметил про себя Пестряков. — Не ветерок, а ветряга! Такую погоду механики-водители уважают. И Черемных, сиди он сейчас в танке, обрадовался бы. Дым глаза не застит».
Тимоша поджег поленницу дров, сухие щепки и в этом дворе лежали под навесом в изобилии: сосед-домовладелец тоже припас топлива на всю зиму. Тимоша набросал на поленницу какое-то тряпье, выброшенное им когда-то грязное белье, конскую сбрую, густо смазанную салом, дегтем. Пусть дымит как умеет!
Тимоша убедился, что дым сносит ветром на угловой дом, и сказал, отступая от костра, уже набравшего жаркую силу:
— Теперь дыму не оберешься!.. Воевать сподручнее… Культурно. Никто к нам не сунется.
— А сгорит дом — тоже не заплачу, — отозвался Пестряков зло. — Ихние дома застрахованы. Гитлер — пусть он живьем сгорит! — за все заплатит. Заместо страхового общества.
Они заняли в угловом доме удобную позицию. Оба стали на колени у соседних окон. Стекла уцелели, и выбивать их прежде времени не стали, маскировки ради. Автоматы положили на подоконники не дисками, а кожухами — тоже для незаметности.
Тимоша сладко зевнул и, судя по всему, не прочь был соснуть тут же, на полу под окном, но Пестряков его растормошил. Нужно вести наблюдение на два фронта — из окон, глядящих на восток и на юг.
Тимоша торопливо кивнул в знак согласия и, чтобы разогнать сон, принялся напевать один из бесконечных вариантов любимого «Синего платочка»:
Маленький синий платочек
Немец в деревне украл…
Тимоша взглянул еще раз в окно и сердито оборвал песню. Он принялся ругать хозяйку этого дома, поленилась, такая-сякая, напоследок вымыть и протереть окна. А сейчас вот по ее вине Тимоше приходится до боли в глазах вглядываться в запыленное стекло. И ведь не протрешь его, это проклятое стекло! Пыль-то, грязь и копоть с улицы пристали!
— Будем на этом перекрестке уличное движение регулировать, — усмехнулся Пестряков и прищурился. — Наподобие милиционеров в большом городе. У нас в Смоленске тоже перед войной завели такую моду. Стоит, машет палочкой во все стороны…
Тимоша горячо заговорил о чем-то, но Пестряков его не расслышал.
— Со мной тихо говорить — все равно что глухому звонить, — напомнил Пестряков.
Тимоша проворно сменил позицию у окна. Теперь он расположился, как бывало в разведке, слева от Пестрякова.
Пестряков слегка сдвинул набекрень каску. Он полагал, что у Тимоши есть к нему важный разговор.
— Я вот интересуюсь, — Тимоша озабоченно морщил безбровый лоб, — кто на этой войне сделает самый последний выстрел?
— Ну и пустельга! А я-то ухо навострил. Вечно ты, Тимошка, от нечего болтать небылицы сочиняешь… Последний выстрел? Кто его знает! Может, даже мне оказия выпадет — напоследок по Гитлеру пальнуть.
— Возьми такой эпизод. Пушку зарядили. Снаряд уже дослали. А тут замирение подоспело. И команда: «Прекратить огонь!» Как быть?