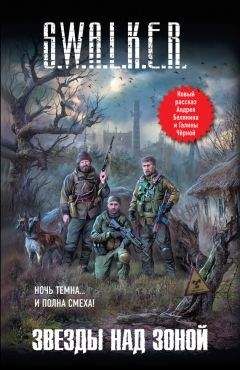Тимоша проворно сменил позицию у окна. Теперь он расположился, как бывало в разведке, слева от Пестрякова.
Пестряков слегка сдвинул набекрень каску. Он полагал, что у Тимоши есть к нему важный разговор.
— Я вот интересуюсь, — Тимоша озабоченно морщил безбровый лоб, — кто на этой войне сделает самый последний выстрел?
— Ну и пустельга! А я-то ухо навострил. Вечно ты, Тимошка, от нечего болтать небылицы сочиняешь… Последний выстрел? Кто его знает! Может, даже мне оказия выпадет — напоследок по Гитлеру пальнуть.
— Возьми такой эпизод. Пушку зарядили. Снаряд уже дослали. А тут замирение подоспело. И команда: «Прекратить огонь!» Как быть?
— Согласно наставлению, орудие следует разрядить выстрелом. Ствол опустить. Открыть затвор и смыть нагар мыльным раствором.
— Нормально. Но вот как разрядить пушку? Стрелять-то уже некуда будет! — Тимоша весело ругнулся и заерзал, сидя на полу; каской он едва доставал до подоконника. — По своей территории — нельзя. По Германии — тоже нельзя. Фриц уже руки поднял. Гитлеру капут. Хорошо, если та батарея рядом с морем окажется! Довернут тогда пушку и вежливо выстрелят в море. А на сухопутье? Хлопот не оберешься. С этим самым последним снарядом…
Вот ведь, ветрогон, о чем заботится! Словно уже победу празднует!
Пестрякову и самому бесконечно приятно было думать сейчас о последнем выстреле, о победе, о будущей жизни.
Сколько мин нужно еще на свет вытащить, которые притаились в мирной земле, а заряд свой держат. Сколько могил обозначить и украсить! Сколько окопов, траншей и воронок засыпать! Сколько черных штор с окон сорвать! Сколько злых сорняков выполоть! Сколько синих лампочек вывинтить! Сколько изб поставить-срубить и печей в них сложить! Сколько соскоблить со стекла бумажных полосок!
Вот и это окно Гитлер крест-накрест белыми полосками выклеил, а все равно придется сейчас это стекло пулями прошить…
43
Пестряков с особенной жадностью вглядывался во все, что его окружало. Он так исстрадался в своих ночных скитаниях, что даже ходить приучился, как все слепые — приподняв лицо и очень сторожко.
Он отвык от ярких красок дня и сейчас вдруг с интересом отметил, что деревья обожжены первым морозом. Одни прощально желтеют, другие оделись в багряную одежду.
Каждый порыв ветра срывает с кленов пятипалые пестрые листья.
Листья летят черенками вниз, долго планируют, прежде чем ложатся на землю, незамощенную аллею, покрытую гравием, — аллея тянется до самого моста.
Невесомые кленовые листья подобны хлопьям желтого снега, и Пестрякову с внезапной и невыразимой силой, овладевшей всем его существом, захотелось дожить до снега, до зимы.
Тогда он увидит свое Непряхино в белых сугробах, наметенных по самые окна уцелевших изб, а избы эти — в белых шапках, нахлобученных на крыши. Если снегопад был с ветром, шапки надеты набекрень. И странная фантазия пришла вдруг в голову Пестрякову: ветхие соломенные крыши потому так изнемогают зимой под тяжестью снега, потому их заваливает сверх меры, что крыши теперь наперечет.
Они принимают на себя снег, который в мирные зимы ложился на все крыши еще целехонькой деревни, не знавшей увечий, ран и ожогов войны…
Ну а если победа замешкается, припоздает в дороге и не успеет прийти по снежному следу?
Тогда он хочет увидеть свое Непряхино в зеленом вешнем наряде.
Сойдет снег, который так умело и прилежно маскирует землю своим необъятным белым маскхалатом, и проступят черные приметы войны — обугленные насмерть деревья, которые зимой были незаметны в ряду всех других, а сейчас зловеще чернеют рядом с зазеленевшими; остовы печей, стоящих под открытым небом; черные квадраты золы на месте пожарищ; куры, у которых от вечной возни в пепле и золе перья на груди и на ногах черные; плетни, огораживающие пустыри и калитки, уже никуда не ведущие. Зимой эти плетни, пережившие свои дома и своих хозяев, тоже заносило снегом…
И привиделось ему, как он идет-направляется в свое Непряхино. Он бы охотно прибавил шагу, чтобы скорее дойти до соседей, расспросить про Настеньку, да вот ведь дело-то какое: ему нельзя шибче идти, поскольку шагает не один, а ведет за руку махонькую немецкую девочку, или, если по-ихнему выразиться, медхен.
Может, сиротка — дочка того самого часового, который гулко шагал по улочке и стучал о плиты сапогами на подковках? Несчастливая у него была линия жизни, тоже ведь в самом конце войны заземлился.
Война ту немецкую девочку осиротила, а он, Пестряков Петр Аполлинариевич, ее удочерил. Русские дети в плену к немецкому разговору приспособились. Значит, и немецкие киндеры быстро по-русски научатся. Чужому языку ребенок быстрее взрослого научается. А вот научится ли та медхен заново смеяться, в куклы играть? Это потруднее…
Он поднимает приемыша на руки, бегом бежит по околице в гору, бежит и одышки своей совсем не слышит. Земля податливо пружинит под ногами. Сейчас, в полдень, от земли и от уцелевших крыш подымается легкий парок…
Весна, весна во всей форме!..
В его воображении представилась самая ранняя весна — та пора, когда на огородных грядках только проклюнулись первые ростки и побеги, когда деревья только одеваются во все зеленое, так что черный цвет сучьев и веток еще спорит с нежно-зеленой листвой, а черные гнезда грачей отлично видны в просветах — голые деревья стоят за тонкой-тонкой зеленой кисеей…
А весной попозже, будто вовсе не было войны, в Непряхино снова прилетят соловьи. «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…» Бывало, он вдвоем с Настенькой заслушивался их пением в Заречной роще.
«Только вот услышу ли я соловьиное пение? — встревожился Пестряков. — Может, не отойдут мои уши? Так и проживу свой век глухой тетерей…»
В каждом из времен года, которые являлись сейчас воображению Пестрякова, была заключена своя неповторимая прелесть.
И он подумал с горечью: а есть ли вообще среди четырех времен года такое, когда легко расстаться с жизнью?
Такого времени года нет!
Кто его знает, если бы завелось на белом свете еще одно, пятое время года, оно бы не было таким заманчивым. Но те четыре времени года, которые перебрал в своей ненасытной памяти Пестряков, не годились для разлуки с жизнью…
Пестряков зажмурился, открыл глаза и тяжело встряхнул головой в трофейной каске. В доме воняло поджаренной кожей, тряпьем и еще какой-то горючей дрянью.
— Ну и разит от твоего костра, Тимошка!
Бесконечно далекой, сказочно-несбыточной стала милая сердцу смоленская весна, а перед усталыми, воспаленными от едкого дыма глазами Пестрякова предстала неприглядная, бесприютная, ржавая, пропахшая горькой и какой-то ненашенской, чужой, не берущей за сердце гарью прусская осень…
Вот и решетка деревянная, переплетенная корнями, ветвями, стеблями, жмется к кирпичной стене дома напротив. Пестряков смотрел на оголенные ветви с добрым чувством — крепкие! Как выручили, когда, цепляясь за них, перелезал через высокий забор с автоматом в руке…
На деревянную решетку, увитую плющом, села какая-то птичка-невеличка. Откуда она, такая безбоязненная? Понимает пичуга, что сейчас — затишье.
— Ах ты, птичка-канарейка, ты утешница моя… — вслух вспомнил Пестряков слова песни. — Ты утешь горе мое!..
Пестряков прежде и не подозревал, что бензиновая колонка на углу — он не раз прокрадывался мимо нее ночами — ярко-желтая, будто вымазанная яичным желтком, что почтовые ящики у немцев — красного цвета.
Видимо, Тимоше этот красный ящик тоже мозолил глаза, потому что он вдруг задал вопрос:
— Интересуюсь — ящик пустой? Или, может, там письма застряли?
Пестряков молча пожал опущенным плечом, а Тимоша расхохотался.
— Что ты смеешься во всю варежку? Сам себе обрадовался!..
— Вот было бы фартово — послать письмо бабе Гитлера. Конечно, доплатное. Я бы ей объяснился в любви до гроба. Конечно, до его гроба. Вежливо. И стихи вложил бы про ее хахаля:
Адольф в поход собрался,
За ним гналася тень.
Он к вечеру…
И умер в тот же день!..
Пестряков нахмурил брови и уже собрался было пристрожить своего развеселившегося помощника, но тот сам помрачнел и сказал после молчания:
— С кем только не держал я сердечную переписку… — Тимоша шумно передохнул. — А вот Фросю свою и сынка обошел письмами. Мне бы только не угодить в жмурики. Добраться до полевой почты…
— А не забудешь, губошлеп, написать женке, воскреснуть?
— Клянусь своей красотой! Или пусть от меня одна дыра останется!.. — Тимоша потемнел лицом.
Пестряков искоса сочувственно поглядел на него, а прикрикнул строго:
— Наблюдение за местностью вести нужно! Тоже мне «глаза и уши»!
В ответ Тимоша виновато потер глаза грязным кулаком и снова откинул на затылок каску, чтобы она, такая-сякая, не налезала на уши…