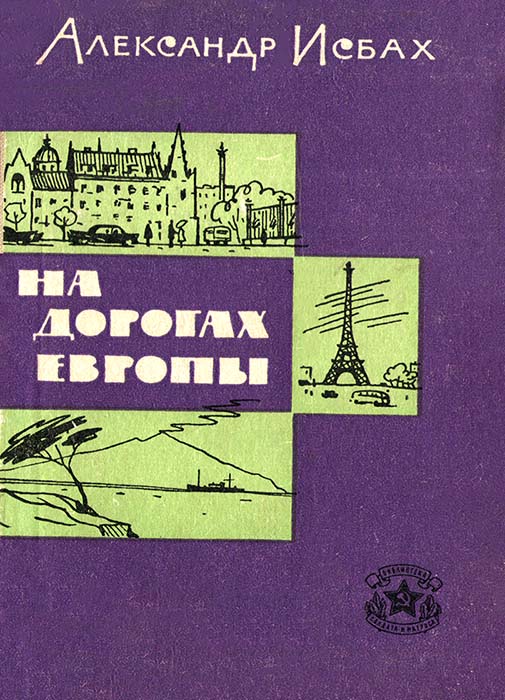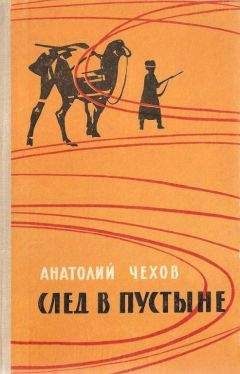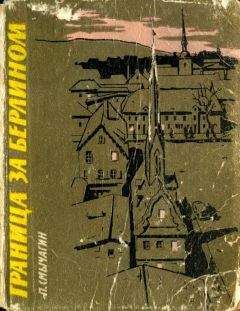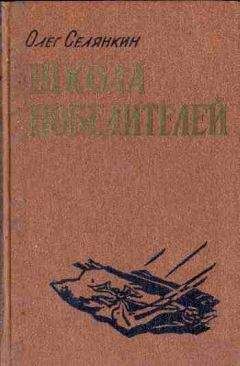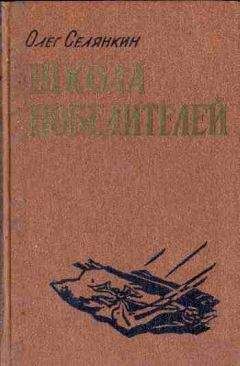class="p1">«…Фантастический сад, — писал Арагон в одной из своих статей, — где покоится Александр Герцен — великое русское сердце, человек, который всей своей жизнью приближал сегодняшний день своей родины».
Парк был пустынным. Только какой-то немолодой француз безуспешно разыскивал могилу Шатобриана.
Но вот наконец прямо перед нами вырастает издавна знакомый по репродукциям памятник.
Он стоит высоко на холме, Александр Герцен, в длинном своем старомодном сюртуке. Над Ниццей, над Английской набережной, над Средиземным морем. Невысокий, даже чересчур приземистый, широкоплечий. Почти в такой же позе, что и у нас в саду института, на Тверском бульваре, у дома, где он родился. Только руки сложены на груди. Он стоит в старинном парке на французской земле, а глаза его устремлены к востоку, к России, к Родине.
Большая бронзовая плита:
Александру Герцену — его семья, его друзья и почитатели.
А вокруг лежат какие-то тайные и статские советники из Петербурга, какие-то чиновные люди, приехавшие «на воды» и скончавшиеся на ниццком курорте…
И он кажется необычайно одиноким в этом чуждом ему самому окружении, великий русский писатель, борец с социальной несправедливостью, чей «Колокол» в середине прошлого века гремел как набат, отголоски которого продолжали звучать многие и многие годы.
Мы, советские писатели и художники, замерли у подножия памятника. Неожиданно к нам подошел немолодой человек. Над карманом пиджака два ряда орденских ленточек. Старый комбаттант оказался хранителем парка и кладбища. Александр Виаль. Gardien du Château, как значилось на пожелтевшей визитной карточке… Потомственный хранитель. Его дед, его отец были часовыми у этих старых кладбищенских ворот.
Он взволнованно пожимал наши руки. Он счастлив увидеть русских писателей, земляков Александра Герцена. Когда немецкие фашисты заняли Ниццу, они разыскали Виаля и требовали показать им могилу Герцена. Кто знает, что замышляли они сделать с памятником и прахом великого русского демократа?
Виаль отказался исполнить их приказание. Он много слышал о Герцене от бывшего мэра Ниццы, радикала Жана Медесена. Он знал, как дорога память Герцена каждому советскому человеку. А Советы вели войну с фашистами, которых ненавидел Виаль.
Его бросили в лагерь. Потом он бежал и сражался в рядах Сопротивления.
И вот он вернулся на свой старый пост. Пусть советские люди не беспокоятся. Пока он жив — Герцену ничто не угрожает. А потом на пост хранителя станет его сын. Нет… Александр Герцен не так одинок в Ницце.
В глазах старика, прикрытых мохнатыми бровями, зажигаются задорные огоньки.
…Простившись с Герценом, мы молча спускаемся с холма. У ворот кладбища неожиданная встреча. Миловидная школьница Николь, изучающая русский язык, просит наши автографы на подаренном ей портрете Германа Титова.
Мы проходим по Английской набережной, мимо сверкающих огнями отелей американских миллионеров, мимо домика, на котором написано:
Долой войну!
Да здравствует народ!
Мимо нищего художника, рисующего на панели очередную богоматерь…
Средь страниц моей дорожной тетради теперь лежит веточка кипариса с могилы Александра Герцена. Я буду хранить ее рядом с самыми дорогими реликвиями: дубовым листком с пушкинского дуба (из Михайловского) и пальмовым листком с итальянской виллы Максима Горького.
Яблоко действительно было очень хорошее. Большое, румяное, с золотым отливом. Оно заманчиво свешивалось над изгородью и, казалось, само просило: сорвите меня, попробуйте, какое я душистое и сладкое.
Петр Михеев не выдержал. Он протянул уже руку, и все мы отвели глаза, чтобы не видеть преступления нашего запевалы и баяниста Петра Михеева. Но старшина Наливайко увидел. Он сурово отвел руку Михеева и сокрушенно прикусил свой длинный ус.
— Эх, Петро, — сказал он, — сколько было про то говорено, и напрасно. Солдат ты, Петро, во всем исправный, а не выдержал искушения, хотел подвести всех саперов. И что в нем, в этом яблоке…
И тут же старшина замолчал. Во-первых, потому, что яблоко действительно было замечательное и он не хотел кривить душой, а во-вторых, потому что открылась дверь, и из хаты выбежала невысокая молодая женщина в белой с голубыми разводами косынке.
— Пан офицер, — обратилась она к старшине (Наливайко невольно подкрутил ус, гордясь произведенным впечатлением). — Пусть пан офицер слушает меня скорей. Перед мостом германцы закопали мину. Там не можно ходить. Я буду показать пану офицеру.
Она побежала вперед. Старшина Наливайко, внушительно махнув нам рукой, побежал рядом с ней.
Короче говоря, мы обнаружили перед мостом двести килограммов тола. Мы нашли какую-то новую мину с тремя взрывателями и вырвали все три жала. Энергичнее всех работал Михеев. Старшина изредка поглядывал на него и многозначительно крякал.
Польская женщина стояла неподалеку. Она с любопытством разглядывала нас, теребя концы косынки. Старшина Наливайко опять подкрутил усы и сказал:
— Гражданка Христина Станиславовна Пшегальская (узнал уже, оказывается, и имя и фамилию!), от лица командования благодарю вас за помощь Красной Армии.
Он вышел вперед и крепко пожал руку совсем смутившейся женщине.
А потом мы вернулись к ее хате на окраину, чтобы захватить оставленные вещи и двигаться дальше. Собрали вещи, старшина приказал строиться. Вдруг он поглядел на яблоню и замер. Над изгородью на месте того румяного яблока свешивалась одна голая ветка. Все мы тоже посмотрели на ветку и помрачнели.
— Рядовой Михеев, — сказал хрипло старшина Наливайко, — выйдите из строя.
Петр Михеев, огорченный и даже испуганный, сделал шаг вперед.
Но тут, как в сказке, опять открывается дверь хаты и выходит Христина Станиславовна, и в руках у нее большое блюдо с фруктами. А на самом видном месте то самое, заманчивое, румяное, сочное, с золотистым отливом. Двадцать лет живу на свете, а не видал такого яблока.
— Проше, пан офицер, — сказала Христина, — пусть жолнежи возьмут на дорогу по яблоку. Проше, жолнежи…
Старшина Наливайко распушил усы, подумал, улыбнулся и… согласился.
Петр Михеев стоял ближе всех к Христине, и (судьба!) лучшее яблоко досталось ему.
А потом мы пошли дальше. Михеев запел удалую походную песню. У всех нас было хорошо и радостно на душе. Перед поворотом мы оглянулись. Христина Станиславовна Пшегальская все еще стояла у своей избы. Она глядела нам вслед и прислушивалась к словам русской песни.
Он незаметно подошел к нам и остановился, переминаясь с ноги на ногу. Изможденное лицо было изрезано глубокими морщинами. Длинные пряди седых волос спускались на высокий лоб.
— Что скажешь, старик? — грубовато спросил сержант Тимофей Шило, сняв наушники своего миноискателя. Седой человек криво усмехнулся.
— Вы, кажется, ищете