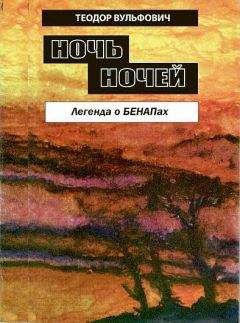— У-у-уйди, не позорься, — тихо проговорил Лысиков прямо в ухо Петру, нос у него покрылся испариной, и он тяжело дышал.
— Отваливайте отсюда, ребята. И подальше, — посоветовал Коган. — Тут не засранные тылы врага, куда вы ходите отсыпаться и отсиживаться от гнева начальства. Здесь не очередь за орденами. Здесь мины. И много.
Насчет МИН — была чистая правда, насчет «отсыпаться в тылу врага» было сказано с перебором, а что касалось «гнева начальства», то тут кое-какая правда была. Один из взводных, кажется тот же Виктор Кожин, так прямо и заявил:
— Да мне что здесь, что там — один хрен. Там даже лучше: меньше стреляют — у наших всегда нехватка снарядов; порядка больше на дорогах — везде указки. И главное — там на тебя никто не орет. Ни одна сука… — Кожин на гражданке был геологом, привык к отшельничеству и терпеть не мог, когда пытались сесть ему на загривок.
Рядом с Коганом возникла фигура умученного солдата на голову выше своего командира. Коган мягкими движениями обеих рук отталкивал солдата от кучи валежника и приговаривал:
— У-у-уйди… Не такая уж она простенькая… У-у-уйди, говорю.
— Давайте у-у-вместе, товарыщ старший лейтенант… — вяло предлагал долговязый.
— Что «вместе»? Туда что ли «вместе»?.. Я сам. Понял?.. — он исчез за кучей валежника.
Солдат нехотя отступал с офицерами-разведчиками.
— «Я сам… Сам…» — бурчал он.
Романченко переваливался на кривых ногах из стороны в сторону, отступая спиной, произнес:
— Ладно. Поздравляем с присвоением звания и с «Александром Невским». Только учти, с тебя причитается, и как следует! — ходили упорные слухи, что в саперном батальоне спирт есть.
Из-за кучи хвороста донеслось:
— Погоди-погоди!.. — все замерли и ждали. — Ложись! — вдруг крикнул сапер, и все до одного плюхнулись наземь.
Он появился, как фокусник:
— Ну… черносотенец Петя! — Коган стоял, как клоун, всклокоченный и сияющий, без фуражки, с небольшой, как высокая кастрюлька, миной в руках. — Раз причитается — дарю! — он протягивал мину Романченко. — Бери, драгоценная!.. На опохмелку тебе.
Поднимались, отряхивались, посмеивались. Петрю снова выругался и сообщил саперу, что ни за какие ромашки эта кастрюля ему не нужна.
* * *
Они уходили… — «отваливали».
— Какой звонкий! А?.. — цеплял Андрюша Борьку Токачирова и кивнул в сторону саперного ротного: — Круглые сутки сидит на минах и хоть бы х-ху-у. — Токачиров не откликался. — Бурух! Не будь бесчувственной свиньей. Прояви эмоцию!
Борис привык к шуточкам своего земляка. Но, по правде говоря, он их терпеть не мог. Хоть и терпел. Выдержка ему не изменяла, тем более что Андрюша эти шуточки произносил без всякого занудства.
Действительно, где-то в недрах Ростова-на-Дону, второго по задиристости города после Одессы, Борис Токачиров — и тут Андрюша был прав, — наверное, больше чем наполовину действительно был еврей, ну и что?.. Да… старался тщательно скрывать это обстоятельство… Если заглянуть в сумеречную глубину веков, на плохо обозначенную границу между Востоком и Западом, то предки его действительно были ИБРИМ, что на древнем наречии означало «с той стороны перешедшие реку». Андрюша величал его Бурухом Мурдуховичем Токачиром. Борис никогда не настаивал на своем доисторическом происхождении. Что не такая уж большая редкость в России, да и в сопредельных государствах. При всем при том был он человеком не задиристым и «не специфическим», мог бы сойти за грека и за татарина, за цыгана с примесью. Был хорошо сложен, с волнистой (а не курчавой) шевелюрой, взгляд был несколько заносчив. Впрочем, заносчивых среди офицеров разведки всегда хватало. А вот Андрюша был совершенно белобрыс, прост и добр. Его любили и подчиненные, и офицеры, и даже начальство, — а это сочетание редкое. Репутация в разведке стоила дорого — если тебе и твоим сведениям верили, то это качество было целым достоянием. Гоняли его на задания почти непрерывно, значит, был и безотказным. На таких держалась вся воюющая армия, а разведка и подавно. Но были Борис и Андрюша, одно слово, — земляки. Подзуживали друг друга постоянно, но не озлоблялись. Верх тут чаще держал Андрей, потому что по натуре был легче и разных комплексов меньше.
НО ВСЕ ЭТО БЫЛО ТАМ, В БРЯНСКОМ ЛЕСУ…
* * *
А здесь, на Висленском плацдарме, была сооружена точно такая же «хоромина», как и там. Только чуть поубористее, потеснее… Но ведь тогда и компания была куда больше, чем теперь…
* * *
С каждой операцией, с каждым громким приказом Верховного, с каждым салютом их становилось все меньше и меньше, а пополнение никогда не восполняло настоящих потерь. Вместо ушедших стоял если не мрак, то пустота. Пустота не затягивалась, не зарастала. Тоска приходила и стояла то в дальнем углу, то в дверном проеме между кают-компанией и хозяйственным отсеком… Ростом от пола до потолка, в истлевшей до пят шинели (не сукно — рядно на просвет), почти без лица (один намек), и все сплошь пыльно-серое… Видение бывало стойким и не растворялось.
Просторную землянку в Брянском лесу соорудил своему взводному как награду за прошедшие бои рядовой Федор Петрулин. Пробно затопил, пошел дым из трубы, — так сразу и заполнилась хоромина молодыми людьми невысоких офицерских званий. Заполнилась до отказа. Казалось, приди еще хоть один и некуда будет деться… Но приходили еще и помещались.
«У тебя была своя война, у меня — своя. И заткнись… Или напиши книгу, и мы узнаем, какая она была у тебя».
Из спораПорог был довольно высокий, чтоб в случае чего не заливало, и дверная перекладина была мощная — опорное бревно для всей крыши и наката.
Распахнулась дверь, и ввалился лейтенант Романченко — он с ходу долбанулся башкой о косяк и завыл…
— Ты что? Какие-нибудь неприятности? — спросил хозяин как ни в чем не бывало.
— У-у-у-у! — ревел Петр. — В будку… твою, мою!.. Штабы-тылы-шлагбаумы-МАААТЬ!!! — протиснулся и сел, все еще держась за голову, и чуть не придавил сразу двоих.
— А я думал неприятности, — сказал хозяин.
В этом более свободном, даже сияющем пространстве все были почти такие же, как и на Висленском плацдарме, и все равно совсем другие: еще без орденов, только новенькие гвардейские знаки светились на гимнастерках справа и разве что были немного легче и задорнее… Ведь по официальным приказам в воюющей армии один день засчитывался за три дня обычной действительной службы, так что и один год на фронте мог показаться вечностью.
Беседа была в разгаре: неслась отборная матерщина, казалось, что здесь не только выхваляются, но и соперничают.
— А потери?.. Мать ее в коромысло…
— Ведь уже сколько торчим в лесу, не воюем, а потери… — снова неслась ругань.
— Вот именно!.. — опять изыски.
— Ты что предлагаешь?.. — перекрикивал всех хозяин землянки. — Кончится война. Придешь домой — торжественная встреча! Объятия… А ты без утрамбованного мата «Здравствуй, мамуля» сказать не сможешь…
— Торжественно заявляю: «Мы здесь все стали тро-гло-ди-ты!» — вклинился в перепалку зажатый в угол танковый взводный Иван Белоус.
— Ерунда! Троглодиты были честные, славные ребята и не матерились!
— Вместо этого они иногда съедали своих родителей, притом не только мам, но и пап.
— Ну и что? Они же их ели из чувства сострадания к старости, — упражнялись остряки.
— Не преувеличивай! И от голода тоже!.. — кричал кто-то из дверного проема.
Смеялись вразлом, им хоть палец покажи — расхохочутся. В такие моменты часовые вздрагивали и озирались.
— Пора выпить! И как следует! — рычал Романченко.
— Ти-ши-на!.. Твоя головная травма зачтется… Почти у всех есть мать…
— Господа-ребята, прошу…
— Ну, чего вы все время ругаетесь?!
— Шутки в сторону — тишина!
— Ну, не мама, так сестры, тетка, родные есть… Что происходит?.. Среднее ранение — я уж не говорю гробешник, — и семья остается без средств к пропитанию. На четыре-пять месяцев.
— Раньше шести месяцев денежные аттестаты вообще не доходят.
— Ведь от голода тоже сдохнуть можно?
— Не только от сухостоя!.. — опять шум, смех.
Вошла санинструктор Антонина.
— Разрешите?.. — стала пробираться к лейтенанту Кожину.
Он ей протянул руку и сказал всем:
— А ну сбавьте обороты.
Она присела рядом с Виктором. Наклонилась вперед и тихо спросила у хозяина:
— Моей подруге можно?..
— Нет!.. А кто?
— Юля, из самоходного полка… Наша… — сказала как ни в чем ни бывало.
— Можно, — ответили сразу.
Она кивнула тем, кто стоял у входа, и промелькнула Юля. Худенькая, с прижатыми к талии локтями, вынырнула в самом углу, — оттуда торчала пара ее больших фиалковых глаз, и в землянке стало сразу как-то торжественнее и спокойнее.