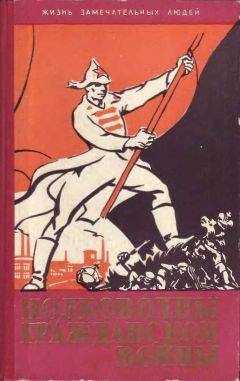Надо было спасать мост.
Я видел, как всполошились наши на берегу, как залегли у моста, как клубились крохотные дымки винтовочных выстрелов. Бойцы были готовы устлать доски моста своими телами, лишь бы спасти переправу, лишь бы ночная атака началась вовремя.
Солнца уже не было. Противник увидел меня поздно и, наверно, принял за своего. Я поспешно пристроился рядом. Я видел, что каждый белогвардейский аппарат вооружен двумя пулеметами, а у меня был один, да и тот с короткой патронной лентой.
— Держись, «Спад»! Это тебе не графский парк!
Я что-то кричал, так же как мой пропеллер, вращаемый мотором. Но мотор кричал громче меня. Белые не слыхали — они были всецело заняты мостом. Они опомнились лишь, когда мой пулемет метнул в них первые пули. И паника, всегда таящаяся под белогвардейскими френчами, под их орденами, неожиданно охватила пять бронированных аэропланов. Белые забыли про мост и пустились наутек.
— Держись, «Спад»! Это тебе не графский парк.
Я инстинктивно обрушился на первый аэроплан, самый крупный и несший, конечно, больше всего бомб.
— Сдавайся! — наверно, кричал я ему. И, взмыв над ним, направил угол крыла на его плоскости, чтобы сломать или обезвредить их.
Белые оправились от смятения и приняли бой. Мимо меня проносились пулеметы, порой пуля, странно звеня (в воздухе пули звенят особенно смертельно, если случайно расслышишь их сквозь рокот мотора), пронзала плоскости.
Я боялся за бак с горючим. И боялся за мост, к которому возвращались белые летчики.
— Сдавайся!
И «Спад» снова ринулся на крылья противнику. Все равно — пусть загорится мое боевое оружие! Все равно вместе с ним сгорит еще кто-то!
Двадцать минут или больше метался я среди вражеских пулеметов. Две бомбы уже взорвались в Днепре, не задев моста. И я заметил: аэроплан, которому я дал по плоскостям, начало болтать в воздухе.
Смерть большого аппарата сызнова подняла панику среди врагов. Плохо нацеленные бомбы падали в воду, даже в сумерках были видны всплески воды, а не дыма. И белые аэропланы, «выполнив задание», отправились восвояси. Пулеметы молчали.
Первый аппарат еще вихлялся над позициями белых, Ох, жаль будет, если он упадет там, пригодился бы нам такой редкостный трофей! Я погнался было за ним, чтобы последними патронами загнать его на нашу сторону.. Но было уже поздно. В серости сумерек вспыхнула необычная ракета: аппарат загорелся и, пылая, рухнул над своими.
Мост был спасен. Я немного устал, все так же хотелось пить, зато я научился с одним пулеметом драться против десятка. И мне казалось, что я буду полезен еще долгодолго.
Этот мелкий эпизод боевой жизни почти ускользнул у меня из памяти. Но поскольку конец моего рассказа никак не назовешь красивым и радостным, я теперь все чаще вспоминаю именно этот эпизод и заново переживаю каждую мелочь — от мимолетных ощущений в воздушном бою до той радости, с которой я гладил свой старый «Спад», посадив его лишь слегка пораненным в украинской степи у спасенного моста.
Хорошо быть повелителем воздуха — во имя революции!
Это я почувствовал, обучаясь в авиационном училище. В боевые годы я летал, можно сказать, как простой металлист. А тут пришлось кое-чему поучиться. И за учебой я часто вспоминал старый «Спад» и удивлялся, как он не вывалил меня на землю под пулями белых. Как это у нас получалось?
После окончания училища я, квалифицированный военный летчик, каждое утро садился в свой самолет и, посадив рядом будущего летчика, парнишку-комсомольца, летал над окраинами Москвы. В эти минуты я снова думал о Южном фронте, и оттого мне было особенно приятно видеть под собой мчащиеся поезда, дымящие трубы фабрик, новостройки. Я говорил тогда своему воспитаннику:
— Мы можем гордиться — мы охраняем революцию!
Радостно пели моторы. И не говорите, что в них не
было прежнего упорства боевых дней!
Солнечными утрами, окрыленный старым боевым упорством, я носился над московскими окраинами. Самолеты с легкостью выделывали «мертвую петлю». Равняя боевые порядки, наши ^треугольники» сотрясали воздух. Вытянувшись в разведывательную цепочку, мы летели на запад... Мы знали: перед началом работы с заводских дворов на нас глядят тысячи глаз. Глядят так же, как в-боевые годы, когда, защищая мосты революции и переправы новой жизни, мы били своими старыми крыльями по вражеским пулеметам. А теперь разве не выросли у нас новые, могучие крылья?
Солнечными утрами радостно пели моторы и радостны были мы.
...В то утро мы взлетели в тумане. Не видать было заводских корпусов, поездов, строек. Кожаная куртка отсырела от тумана. А мой комсомолец с улыбкой раскрутил пропеллер.
— Контакт!
— Есть контакт!
Мы заняли свои места. Мотор работал четко, как всегда. Я осмотрел бензопровод, рули. И мы взлетели в шуршащем тумане.
Города не было. Глыбы тумана наваливались сверху, пробегали мимо, холодные, подозрительные.
На двадцатой минуте, когда высотомер показывал 860 метров, в моторе послышались перебои. С заграничными моторами это бывает. Я прибавил скорость, и перебои повторились. Уменьшил высоту и повернул обратно на восток, к аэродрому, чтобы проверить мотор.
Но спустя несколько секунд сильный взрыв вырвал у меня из рук штурвал. Бензопровод лопнул, и самолет загорелся.
Мой воспитанник сорвал с себя кожанку, бросил ее под ноги, чтобы сдержать вторжение огня. Я выключил мотор. Стало жарко. Шуршал то ли туман, то ли огонь. >
— Мы горим в тумане!
Кажется, это крикнул он. А может быть, произнес я. Или нелепая мысль в голове сама заговорила вслух?
Земля, конечно, уже недалеко. На землю — как можно скорее! На землю!
Но огонь бил снизу. Пропеллер, как колесо иллюминации, месил огонь. Дергался, умирая, мотор, захлебываясь смазочным маслом и бензином. Мне жгло лицо. Глаза тлели под раскаленными стеклами очков. Руки в кожаных перчатках словно облепило расплавленным железом. Мой воспитанник, наглотавшись огненного воздуха, свесил голову и хрипел.
— То ли еще выдерживали! — крикнул я, глотая пламя. В голову ломилась смерть с десятью пулеметами, от которых тогда унес меня старый «Спад».
В одну и ту же секунду я увидел деревья, отдаленные корпуса • домов и бежавших в тумане красноармейцев. И ощутил удар, как от вражеского аэроплана. Это была земля.
* * *
Два месяца я пролежал в больнице.
На третью неделю я очнулся от сна или от смерти. Почувствовал, что мой мотор еще работает. Почувствовал также, что у меня уже нет ни лица, ни рук, ни спины. Я спросил, вслушиваясь в собственный гнусавый, неприятный голос и радуясь, что сам еще слышу себя:
— Зачем вы меня разбудили?
И меня чинили, как мы когда-то чинили сбитые вражеские аэропланы.
Два месяца на меня накладывали заплаты. Нарастили на пальцах мясо вместо сгоревшего. Зарастили на лице рытвины, которые выжег горящий бензищ Потом сняли повязку с глаз, и я увидел холодное зимнее солнце в щель большого окна.
Но это было уже не то солнце, которое привык видеть летчик и к которому, говоря безо всякой лирики, так приятно лететь. Я смотрел на свои забинтованные руки, и в единственном глазу, показавшем мне все это, накипали злые слезы...
Все было хорошо.
Анна Балтынь любит меня по-прежнему, любит искалеченного, полуслепого, искромсанного* изломанного. Так же, как я когда-то любил старые, залатанные аэропланы. Но ведь это было когда-то!.. И я сказал ей:
— Ты же молодая. У вас в цехе много сильных, здоровых мужчин. Живых. На что тебе калека?
Но женщины и в наше время все такие же чудачки — даже старые пулеметчицы.
Все было бы хорошо.
На свете достаточно молодых летчиков. И хотя сгорел молодой Волков, а я...
Мне причиняют боль мои товарищи. Конечно, не нарочно. Полные сочувствия, они входят в мою инвалидскую, в мою пенсионерскую комнату. Они говорят о самолетах. Они рассказывают мне каждую мелочь — о каждом новом винтике, который прибавился в воздушных эскадрильях революции. Из своего окна я вижу ангары, о которых они рассказывают, Я мысленно вижу, как они там поднимаются в воздух и садятся... И их сочувствие, их разговоры выводят старого бойца из равновесия.