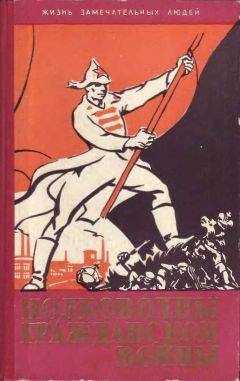Я стараюсь молчать, потому что мое сердце — мой мотор — испорчен и не может работать помногу. А мои товарищи заставляют меня кричать. И я кричу — о том,
что никакие их разговоры не заменят мне счастья летать, '
что без высоты я не могу жить,
что самолет — мой самый верный, испытанный друг еще с гражданской войны,
что мне, инвалиду, нет больше смысла жить, я только напрасно ем хлеб республики, и лучше бы его отдали какому-нибудь молодому летчику.
И еще я кричу о нелепых случайностях, о неизбежности, преследующей даже нас, новых людей революции.
Надо же! В те боевые годы, летая на «этажерках», на «летающих гробах», я не сгорел. Тогда у нас только и были эти «гробы» — испорченные вражеские аппараты, и мы их чинили молотком и кусками проволоки. Не было бензина. Уже в 1918 году у аэропланов революции не было горючего. Мы тогда сами изобрели историческую «горючую смесь»: керосин, ополоски от нефти, какие-то масла. И она горела — ничего, не лопались никакие баки и бензопроводы. Мы не горели в полете. Потому что весь огонь надо было отдать врагу.
А теперь, когда мы летаем не на гробах, а на «коврах-самолетах», когда я знаю, как здоровье каждого ринтика в организме аэроплана, когда бензин у нас чистый и легкий, как воздух, в котором мы выделываем звонкие «мертвые петли», — вдруг случайность, неизбежность. И летчик — калека.
Я не виню мотор, за который иностранным буржуям уплачены немалые деньги. Не виню наши новые авиазаводы. Чушь собачья все эти комиссии, копавшиеся в кучках пепла и в моей больной голове, чтобы выяснить, как это я горел. Да, может быть, в воздухе я просто не был полезным до конца, ибо трудно найти себе самое полезное занятие в жизни.
Теперь, когда сердце у меня бесполезное, глаза и руки бесполезные для полета, я много думаю об этом. И я вынужден думать по-всякому.
Чего бы я ни отдал за то, чтобы полетать еще один-единственный раз! Но стоит заговорить об этом — товарищи подозрительно смотрят на меня и начинают утешать. Товарищи понимают. Но понимаю и я: они думают — поднимется в воздух этот невоенный инвалид, а там, как боец, — раз! Одним смертельным ударом врежется в землю.
Неправильно вы думаете, товарищи! Только лишний раз причиняете мне боль. Разве я не знаю, что самолет все-таки стоит дороже, чем старый, чиненый-перечиненый, бесполезный летчик?
Ладно, не давайте мне летать! Но тогда уж летайте сами. Летайте, товарищи, так, как мы летали когда-то — в девятнадцатом, в двадцатом году, будьте такими же бойцами, какими были мы. Потому что еще придется драться — за мосты революции!
11894—1941)
ПРИКАЗ № 325
■
огда мы боролись за Советскую Латвию. В ее освобожденных городах и селах уже занималась заря новой жизни, призывая к восстанию весь мир.
Это была тяжелая борьба, как все битвы во имя революции. Мы уже прошли с боями добрую половину всей Советской Республики. На берегах Волги вместо унылых песен бурлаков звенели новые песни. Мы сражались с казаками, с теми самыми казаками, нагайки которых в 1905 году секли наших отцов. Красные бойцы дрались на подступах к Троицку, сражались на берегах Хопра, и не один стрелок сложил свою буйную голову в степях под Борисоглебском, на укреплениях под Перекопом. Мы сражались, чтобы построить новую Родину!
В нашей роте было много батраков, безземельных крестьян из Алуксне и рижских рабочих. Их мозолистые руки оставили косы на краю кулацкого поля и молоты на заводе «Феникс», чтобы взять винтовку и гранату.
Служил у нас в роте Антон Нейланд, старый стрелок. Он не мог спокойно вспоминать Пулеметную горку, не мог равнодушно говорить о знаменитых рождественских боях. Никто еще не обманывал его так бесстыдно, как те, у этой проклятой горки.
Янис Калнынь пережил неслыханные ужасы в оккупированном англичанами Архангельске. Бежал оттуда. Перенес тиф, от цинги потерял половину зубов и все-таки остался сильным и бодрым. До войны он работал кузнецом. Товарищи в шутку говорили, что на его широкую грудь можно положить наковальню и выковать обод для колеса.
Служил в нашей роте и Алфред Микелсон. На правой руке у него не хватало двух пальцев: он потерял их во время подавления ярославского мятежа. У него была глубокая рана в левом боку, но об этом никто не знал. Алфред давно мог уйти с военной службы, но ему и в голову не приходила такая мысль.
Нашим командиром был стрелок Фрейманис. Летом 1918 года он принимал участие в ликвидации белогвардейского восстания в Кинешме, Товарищи не раз вспоминали, как при попытке белогвардейцев захватить наш отряд в плен он пулеметной очередью чуть не разрезал на две половинки белогвардейского генерала.
Таких людей в роте было немало. Если рассказывать о подвигах каждого, пришлось бы написать толстую книгу.
Это было горячее время. Мы охраняли мост через Гаую. Конечно, у каждого из нас был свой дом, невеста и мать, каждый мечтал о встрече с близкими. Но мы были солдатами революции, долг повелевал нам охранять завоевания революции. Мы должны были как зеницу ока беречь этот мост через Гаую. Ведь по мосту тянулись рельсы, а по рельсам шли поезда с хлебом и гранатами для стрелков, которые сражались на передовой. У нас в тылу коварный враг то и дело взрывал мосты и портил рельсы. Поэтому охрана моста требовала большой бдительности. Наконец пришел долгожданный приказ, и мы отправились на передовую.
Противник активизировался, упорно пытаясь прорваться вперед. В белых отрядах находились латышские и финские белогвардейцы, эстонские отборные роты, остатки русской царской армии. И все они были вооружены заморским оружием, одеты в форму английского образца. А в последние недели стал появляться бронепоезд, чаще всего ночью.
И на этот раз он появился внезапно, в трескучий мороз, когда снег скрипел под ногами, словно растертое в крошку стекло. Стояла такая тишина, что слышно было, как с ветвей сыпался снег. Изредка раздавались отдельные выстрелы.
Бронепоезд шел, давая резкие гудки, и этот пронзительный звук далеко разносился по уснувшим полям. За бронепоездом следовали неприятельские цепи. Морозная зимняя ночь огласилась выстрелами.
Набирая скорость, бронепоезд оторвался от цепей, следовавших под его прикрытием. Из бронепоезда налево и направо строчили пулеметы, грохотали пушки, и, казалось, не было силы, которая могла бы его остановить.
Противник наткнулся на наши заставы, но продолжал медленно продвигаться вперед. Мы отступили. Бронепоезд прошел глубоко в наш тыл, сея огонь и смерть. Потом он медленно пополз назад. Словно издеваясь над нами — ведьмы были не в силах задержать его, — он коротко свистнул и скрылся за поворотом. Вместе с ним отошли на свои позиции и неприятельские цепи, оставив на снегу кровавые следы. Вслед им прозвучало несколько запоздалых выстрелов, и все стихло.
— Теперь не даст нам покоя этот бронепоезд, — сказал Антон Нейланд на другое утро.
— Да, трудно с ним будет, — согласился Микельсон.
— Ничего, — успокаивал ребят командир роты Фрей-манис, —справимся и с такой машиной. Еще и захватим ее!
— Бронепоезд захватить — дело нелегкое, — сказал Янис Калнынь. — Помню, около Рогачева, на польском фронте, когда мы без подкреплений не захотели идти вперед, к нам явился комиссар бронепоезда Берзинь, вы его знаете: он теперь в штабе дивизии. Приехал на станцию, поднялся на паровоз, произнес пламенную речь и укатил как ни в чем не бывало.
— Ха-ха-ха! — дружно рассмеялись стрелки, а Калнынь закончил:
— Так что захватить бронепоезд совсем не так легко.
С тех пор как по ночам начал действовать бронепоезд,
фронт ожил. Тревожными стали дни и ночи, все чаще раздавались выстрелы. Стрелки чувствовали, что приближаются новые бои, такие же тяжелые, как ход бронепоезда в морозную ночь.
Бронепоезд не унимался. Часто бывало так: обычный фронтовой день, из трубы занесенного снегом домика на опушке леса идет дым. Он поднимается ввысь и плывет над лесом. А в лесу тихо, только изредка слышится стук топора да треск падающего дерева.