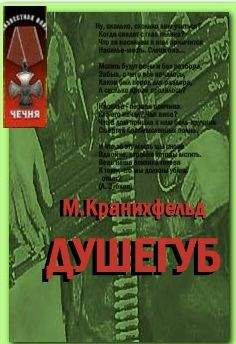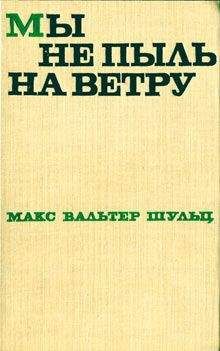— Куда, блядь! — опомнившись рыкнул Стасер в спину проверяющего. — А ну стой, придурок, а то в натуре в тебе дырок понаделают!
— Дмитриев, урод! Не стреляй! Свои! — вторил ему начкар.
— Лежать, суки! Всех попластаю! — истерично взвыл с поста часовой.
— Дмитриев! Ты чего, совсем охренел?! — надрывался начкар. — Свои все здесь! Это проверяющий!
— Лежать! Морды в землю, падлы! Ну!!!
Подкрепляя слова, раскатисто ударила короткая патрона на три очередь. Стасер мгновенно грохнулся в траву и не думая, на одних рефлексах быстро перекатился в сторону, прикрываясь небольшим бугорком. Начкар и караульный боец тоже дисциплинированно плюхнулись в траву, уткнувшись носом в землю, и лишь сам виновник происходящего остался стоять, тупо водя головой из стороны в сторону, видимо совершенно не понимая, что здесь происходит.
— Ты что себе позволяешь, солдат! Я — помощник начальника штаба… — неуверенно начал лепетать он.
— Лежать! Замочу, падла! — срываясь на визг, проорал в ответ часовой, и еще одна очередь выбила фонтанчики грязи из-под ног штабного.
На этот раз намек оказался более чем понятным, подполковник осел на землю так быстро, будто ему подрубило ноги.
— Дмитриев! — прокричал лейтенант. — Дмитриев! Успокойся! Это же я — начальник караула!
— Молчать! Лежать, не двигаться! — уже в полной истерике орал часовой.
— Дмитриев, уймись! Это же я, ты что не узнал? — начкар пытался говорить спокойно и убедительно, но предательски дрожащий голос сильно смазывал эффект от успокаивающих слов.
— Осветить лицо! — все еще дрожащим голосом скомандовал часовой.
Лейтенант торопливо засуетился, зашарил в поисках фонаря по карманам. Наконец слабо вспыхнула тусклая лампочка, на секунду вырвав из темноты заляпанное грязью, перекошенную страхом физиономию начкара. „Его бы сейчас, поди, родная мать не узнала“, — мельком подумал Стасер. Однако часовой, похоже, своего начальника опознал, потому как после небольшой паузы произнес гораздо более спокойным голосом:
— Товарищ лейтенант, подойдите ко мне. Остальные лежать не шевелясь!
Начкар облегченно вздохнув, поднялся на ноги и поспешно пошел к часовому на всякий случай, широко разведя по сторонам руки, демонстрируя отсутствие оружия. Кто его знает, лучше уж перестраховаться, у парня наверняка тоже нервы струнами звенят.
Спустя пару минут лейтенант, переговорив с часовым, успокаивающе махнул остальным, все, мол, можно подниматься. Стасер с кряхтеньем приподнялся, всем видом изображая недовольство от того, что пришлось выполнять подобные гимнастические упражнения и заранее представляя, сколько бумаги, придется теперь извести на различные объяснительные записки, рапорта и акты списывая расстрелянные слишком бдительным часовым патроны. Иначе повел себя штабной подполковник. С лицом красным от гнева, меча вокруг себя громы и молнии он бросился к вставшему по стойке смирно часовому и прямо с ходу залепил ему здоровущую затрещину, от которой у парня подкосились колени.
— Издеваться вздумал, гаденыш! На, сука! Я тебе покажу, как над офицерами глумиться!
— Товарищ подполковник! — крикнул в ухо озверевшему штабному подскочивший Стасер. — Прошу прекратить! Солдат действовал в соответствии с уставом!
— С уставом! — в бешенстве ревел подполковник. — И ты, капитан, туда же! Покрывать его вздумал!
Пухлый кулак врезался в скулу бойца, сбивая того с ног. Стасер успел схватить подполковника за руку, предупреждая второй удар, но тот извернулся и пнул поднимающегося солдата ногой в лицо.
— Прекратите, я сказал, — шипел Стасер, пытаясь оттащить рвущегося в бой проверяющего, получалось плохо, массой штабной превосходил его чуть ли не в двое. — Лейтенант, что стоишь?! Давай, помогай!
Лейтенант суетливо вцепился в руку подполковника, но действовал так неуверенно, так явно боялся причинить боль хоть и насквозь неправому, но все-таки начальству, что больше мешал, чем помогал. Подполковник явно выигрывал борцовское состязание, медленно, но верно волоча обоих висевших на нем офицеров к поднимающемуся с земли и удивленно рассматривающему капающую из разбитого носа ему на руку кровь, часовому.
— Я тебя, сука, пополам сломаю! Ты у меня узнаешь! — взревел подполковник, инстинктивно чувствуя близость жертвы, и тут же осекся.
Сухо лязгнул передернутый затвор и патрон, тускло блеснув латунью гильзы, отлетел куда-то за грань круга света отбрасываемого установленным на вышке прожектором. Парень в горячке происходящего совершенно забыл, что после стрельбы не разряжал оружие, а значит, патрон уже в патроннике и передергивать затвор нет никакой необходимости. Эта забывчивость спасла подполковнику жизнь, если бы солдат выстрелил сразу, то никто ничего не успел бы предпринять, а главное, формально часовой был бы абсолютно прав, так как устав разрешает часовому при явном нападении на него применять оружие без предупреждения. Но вышло, как вышло, остатками незатопленного бешенством сознания подполковник сообразил, что сейчас его будут убивать, причем ни малейшего шанса, как то защититься и спасти свою жизнь у него нет, и замер, по инерции все еще таща вперед висящих на нем, как затравливающие медведя охотничьи собаки Стасера с лейтенантом. Боец тупо проводил взглядом отлетевший патрон и вскинул автомат к плечу, целясь штабному в голову. Стасер, как при замедленной съемке увидел, зажмуривающийся глаз и кривящиеся в оскале разбитые губы бойца. Именно по этой кривой улыбке он вдруг до боли отчетливо понял, что солдат действительно сейчас выстрелит. И сделал единственное возможное, что еще оставалось.
Коротко размахнувшись, Стасер ударил штабного в горло. Точно так, как тысячи раз до этого колотил манекен, так же, как бил, бывало, в коротких и жестоких уличных драках. И точно так же, как обычно бывало, штабной коротко всхлипнул, давясь заглатываемым воздухом, и безвольным кулем осел на землю. Все это заняло едва половину секунды. Вскинутый было на уровень плеча автоматный ствол неуверенно замер.
Стасер вытянул вперед руки, обращая к часовому раскрытые ладони, психологи характеризуют этот жест, как успокоительный, выражающий доверие, дружелюбие и полное отсутствие какой-либо агрессии. Сделал он это не специально, а как-то инстинктивно, все азы психологии, вдолбленные в свое время на училищных лекциях в тот момент, когда в каком-то метре от его груди плясал в дрожащих руках избитого мальчишки автоматный ствол, куда-то безвозвратно испарились из головы. А звенящую пустоту черепной коробки монотонно долбила единственная мысль: „Господи, как глупо-то все вышло! Ведь выстрелит сейчас! Обязательно выстрелит!“. Не выстрелил. Ствол медленно-медленно, как в тяжелом кошмарном сне начал опускаться вниз.
— Все, сынок, все… — сам себя не слыша, шептал Стасер. — Все… Отдай мне его, отдай… Все уже…
Часовой, будто под гипнозом вложил автоматное цевье в протянутую ладонь и вдруг будто сломанный в поясе, согнулся пополам закрывая лицо руками. Стасер несколько секунд тупо смотрел на вздрагивающие от беззвучных рыданий острые мальчишечьи плечи, чувствуя, как тело наливается тяжелой, как свинец усталостью. Лишь чудовищным усилием воли, он заставил себя, стряхнуть эту липкую, тянущую к земле паутину и окончательно возвращаясь к реальности, резко скомандовал:
— Лейтенант! Караульного на пост! Этого — разоружить! Что стоишь?! Выполнять!
И лишь дождавшись заполошного выкрика „Есть!“, склонился над тяжело хрипевшим подполковником, уткнувшись в полный ненависти и вполне осмысленный взгляд.
— За то, что ты меня ударил, капитан, сядешь! Обещаю! — массируя рукой вспухшее горло, прошипел подполковник.
— Обязательно, — кивнул ему Стасер. — Только чуть позже. Потом…
И снова бьющий прямо в лицо горячий, будто пахнуло из открытой духовки, ветер, снова вездесущая пыль и истошный рев перегретого натруженного мотора. По обеим сторонам дороги мелькают ровные геометрически правильные поля — клетки, разделенные полными мутно-желтой водой арыками. Квадратно-гнездовое земледелие. Людей, впрочем, не видно, в полуденный зной надо быть настоящим камикадзе, чтобы копошится на грядках, здесь принято работать ранним утром и поздним вечером, полдень — время вынужденного отдыха, пережидание палящего зноя в жалкой тени придорожных пальм, под сводами убогих пыльных лачуг, где нет спасения от влажной потной духоты и полчищ злых пустынных мух, накидывающихся на любую поживу. Местные мудро не замечают этих неудобств и стоически переносят их, дымя кальянами и жуя неизвестного происхождения зеленую хрень с абсолютно непроизносимым для русского горла названием и кружащим голову наркотическим эффектом. Местные родились и выросли здесь, здесь они и умрут, другой жизни они в большинстве своем не только не знают, но даже и представить не могут, потому собственный жребий не кажется им таким невыносимо тяжким и жалким. Местные умны и терпеливы — они полностью соответствуют окружающему миру, безоговорочно принимают его правила и законы, и никогда не ропщут на судьбу. Поэтому местные всегда в конечном итоге оказываются в выигрыше, никакие пришельцы из чужого и загадочного мира расстилающегося за великими пустынями никогда не могли и не смогут покорить эти выжженные солнцем покрытые мелкой красной пылью земли, никогда не победят и не сломят населяющий их народ. Так было всегда и так будет и впредь. И не жалким гяурам изменить в этом непреклонную волю Аль-Мунтаким (Мстящего) Аллаха, не им встать на пути у дающего милости верующим в него и живущим по его научению, и карающего неверных отступников, поражая их разум.