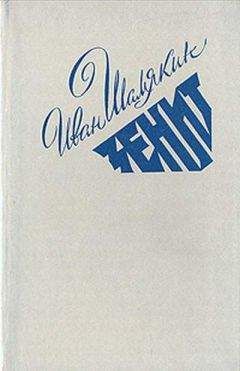Пленный лежал ничком, но при моем приближении вскочил и, видно было, обрадовался именно мне, начал говорить, явно слова благодарности — глаза благодарили.
Кровью был залит мой мешок и штаны Семена. Он вернул мои, а свои долго полоскал в озере, тер песком, галькой. Натянул мокрые. А когда, обуваясь, выявил, что злодеи кроме моей фуражки не взяли и портянок наших — побрезговали, что ли? — скривился в усмешке:
— Гады! Чистоплюи!
Сначала договорились, что Семен сходит за лопатой и заберет мою фуражку, свои трусы, портянки. Но когда он отошел, я окликнул его и вместе с пленным догнал.
— Ты чего?
— Неразумно дробить наши силы.
— А-а, дошло до тебя, что в этих лесах их не двое. Тут можно до конца войны проплутать, особенно если такие разини, как мы с тобой, будут ворон ловить.
Семен был гневно безжалостен к себе. Но ко мне его отношение заметно изменилось. Он не выказывал его словами, речь его по-прежнему была дерзко грубой. Но в том, что он говорил, а скорее, в молчании, в выражении глаз я прочитал благодарность мне. За что? Скорее всего, за то, что я не позволил ему убить человека. Врага, но безоружного.
Избу он снова осмотрел по-хозяйски, особенно ласково глянул на озеро. Сказал, словно отвечая на мои сомнения:
— Нет! Пост будет здесь! Только уговорим Кузаева баб сюда не посылать! Рыбаков пошлем! Рыбаков!
Место для могилы выбрал я — под ближайшей осиной, показалось, что там помягче земля. Но грунт был твердый, каменистый.
Пленный быстро выдохся, обессиленный голодом, да и непривычный к земляным работам, не крестьянин, по рукам видно — интеллигентик.
— Нужно помочь, — сказал я Семену.
— Помогай, — отвернулся он; в нем снова произошла перемена; он замолчал и молчал упорнее, чем в дивизионе, чем вчера, когда шли сюда. В ссоре со мной, в злости на себя человек как бы выговорился надолго.
Я помог выкопать могилу. Насек еловых лапок, вымостил гравистое дно. Попросил Семена помочь опустить в могилу покойника. Семен сидел на берегу озера и не отзывался.
Приказал финну обмыть измазанное кровью лицо убитого. Тот долго не мог понять мое требование. А когда понял, его снова согнули спазмы. Я сделал это сам, без отвращения, без брезгливости. Парень был постарше — оброс рыжей бородой за дни блужданий, а у пленного нашего даже борода еще не растет — совсем девичье лицо.
Я осмотрел карманы: нашел солдатскую книжку. Не выбросил. На что надеялся? На возвращение к своим? Или, намереваясь сдаться в плен, хотел, чтобы наши знали, что взяли рядового?
На мое требование пленный отдал такую же книжку. В ней лежала фотография женщины. Молодая. Красивая. Но все же по годам — не невеста.
— Мутер?
— О, я, я, — радостно закивал финн.
Я вернул ему карточку матери. И тут впервые увидел, как глаза его совсем по-детски наполнились слезами. Показалось неудобным видеть его плач — я отвернулся.
Покойник, пожалуй, худее, чем его живой напарник, но все равно опустить его в неглубокую могилу — не скатить, не свалить, а именно опустить с уважением к смерти — двоим было нелегко. Я разозлился на Семена: подумаешь, показывает характер, будто мне приятно хоронить врага!
Старшина подошел, когда финн неумело ровнял могильный холмик, взял у того лопату, подровнял быстро и ловко.
— Какая у них вера? — спросил у меня.
— Христианская.
— Христиане! — Семен зло выругался. — Выдумали бога, а людьми не стали.
Возвращались молча. Каждый, конечно, молчал по-своему. Финн, возможно, в печали по приятелю, но без сожаления и радуясь, что судьба подарила ему жизнь и что война для него окончилась — ведут в плен. Я — в размышлениях, довольно противоречивых, хотя в целом одобрял свое поведение; одно разве нехорошо: всей правды — как мы зевнули — не стоит рассказывать даже Колбенко, даже Жене. Дело не во мне. В Семене. Хватает у него переживаний, боли, недоставало еще иметь неприятности по службе. Идет он как туча грозовая. По виду ясно: мучительно раздумывает, есть ли у него оправдание перед памятью близких? Один враг — за мать, за сестер, за родных, за деревню. Не мало ли?
В начале дороги я боялся Семена. Он нес винтовку в руках. Приди молоденькому дурачку в голову ступить в сторону с дороги — Семена мне не удержать.
Шли тяжело. Во всяком случае, я чувствовал смертельную усталость, наверное, от нервного потрясения, от копания могилы, от похорон убитого. День был душный, как перед грозой. Шли бы одни — сняли бы гимнастерки, а может, и сапоги. Перед пленным такого позволить себе не могли. Шли как солдаты.
В полдень Семен предложил:
— Перекусим.
В его мешке оставался кусок хлеба и банка консервов.
Я свой мешок не забирал. Не мог. Оставил там, где его облила кровь чужого солдата. Семен посоветовал постирать. Но и выстирать я не смог.
— Оправдаюсь перед Кумом. Подумаешь, потеря!
И есть я не мог, хотя желудок резали спазмы.
— Ешь! — приказал Семен.
Не сказал, что не могу, пообещал поесть, когда отдохну. И подполз к роднику, у которого присели, вымыл руки, окунул лицо, жадно напился холодной воды, пахнущей… грибами. Странно! Почему вдруг грибами?
Там, у родничка, я и прилег, не сводя, однако, глаз с Семена и пленного.
Старшина смачно ел хлеб, запивая из котелка водой, что меня немного даже поразило. Но вдруг Семен перестал жевать. Уставился на пленного. Издали увидел я, как тот сглотнул голодную слюну. С некоторой настороженностью я ожидал от Семена грубых слов. Нет. Человек, у которого фашисты сожгли всю семью, разломил свой ломоть хлеба пополам и протянул пленному:
— На. Да скажи спасибо вон ему, — кивнул на меня. — А то бы ты… — показал пальцем в землю.
Парнишка жадно схватил хлеб, и сказал что-то горячо, возвышенно — благодарил, конечно. Кого? Меня? Семена? Обоих? Потом откусил хлеб, хороший хлеб, вкусный — в ржаную муку пекари добавляли пшеничную, американскую, — и из глаз его брызнули слезы, как крупная дробь. Слезы солили хлеб.
От холодной воды, наверное, мне сдавило горло.
Я писал доклад — инструкционный, для всех пропагандистов — ко Дню Воздушного Флота. Когда тот день — через месяц! Но Тужников любил, чтобы все делалось заранее и основательно. Я принимал это естественно, а Колбенко подтрунивал над «бюрократизацией политработы». Но в тот день он не смеялся, скорее — возмущался: ему казалось, что замполит придумал мне наказание — за поход мой с Тамилой, за историю с финнами. Почему-то она не понравилась Тужникову, возможно унюхал, что рассказали мы с Семеном не всю правду. Приказ написать доклад он передал через Колбенко: «Пусть поменьше шляется, а выполняет свои непосредственные обязанности». При этом прежнее поручение — написать развернутую докладную о морально-политическом настроении личного состава в связи с победами Карельского, Белорусских, Прибалтийских фронтов — не отменил. Хоть двумя руками пиши. Это и возмутило парторга. Константин Афанасьевич жалел меня и, возможно, где-то чувствовал неловкость, что в писании мне не помощник.
Помогал тем, что сам принес из библиотеки подшивки газет, листал их и выискивал факты героизма летчиков. Помощь, конечно, но присутствие его мешало — не та сосредоточенность, хотя за долгую жизнь в одной тесной землянке я свыкся с ним и научился не видеть в нем помеху при любой работе — писал, декламировал, пел, не имея ни слуха, ни голоса. Но чтобы выучить новую песню и потом научить комсомольцев — девчата любили петь, — я слушал радио и записывал текст. Пение наше нравилось и Кузаеву, и Тужникову, командир считал его лучшей формой политработы. Любил Данилова за его цыганское пение под гитару, ни у одного командира батареи, роты не задерживался так долго, как у командира первой, иные даже ревновали к Данилову: мол, хитрый цыган, нашел слабинку у железнодорожника. «Опостылели ему паровозные гудки — звона гитары захотелось», — сказал, кажется, Савченко. Нет, не гудки опостылели — гром пушек, свист бомб, потому на песни тянет. Глаша Василенкова всегда плачет, когда слушает «Темную ночь», «Землянку», «Синий платочек». И сама трогательно поет вологодские свадебные (почему-то именно свадебные) песни. «Замуж девке хочется», — сказал Кузаев, послушав ее. У командира такие шутки никогда не бывают оскорбительными, всегда с какой-то грустной озабоченностью за судьбу «несчастных девушек». Искренне заботился о них.
«Не материнский ты сын, Кум, — упрекал Кузаев начальника обозно-материального обеспечения, — если не можешь выбить у толстомордых лежебок чулки для наших несчастных девушек, смотри, какие они у них рваные».
«Разбейся в лепешку, а несчастных девушек вымой», — командиру батареи МЗА, стоявшей на обороне моста на Ковде в 30-ти верстах от ближайшей бани.
Мне: «Написал бы ты, Шиянок, в газету о наших несчастных девчатах».