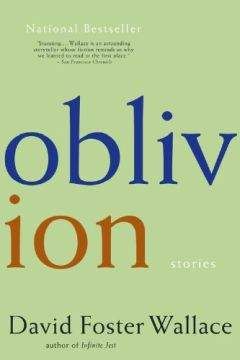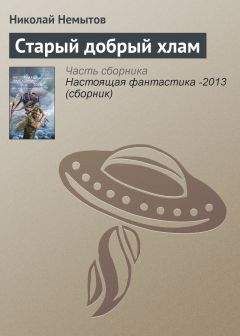— Жора-моряк показывал. — Ромка плотно обернул ногу портянкой, сложил ее раз, другой, заткнул кончик и потянулся за ботинком. — Молодец — научил!
— Жора-моряк?! — удивился Минасик. — Но у него ведь…
— Ну и что? — перебил Ромка. — Я к нему зашел попрощаться, а он вдруг спросил насчет портянок: «Умеешь?» Я отвечаю: «Откуда умею, на черта мне эти тряпки, носки лучше!» Оказывается, в армии носки не разрешают. «Давай, — говорит Жора, — снимай сандали, учить буду!» И стал показывать. Полотенце взял — раз-раз и накрутил. Потом меня заставил. «Иначе, — говорит, — мучиться будешь, ноги натрешь…» Я потом еще дома тренировался, бабка старую наволочку дала, очень хорошо получилось…
«Мог бы и нас предупредить, — подумал Ива, приглядываясь к тому, как управляется со своими портянками Ромка. — Обязательно ему выставиться нужно!..»
Ромка несколько раз продемонстрировал свое искусство. Он был доволен собой и особенно тем, что оказался предусмотрительнее Ивы и Минаса.
Дело в том, что они тоже ходили к Жоре-моряку прощаться. И когда разговор у них коснулся сложностей предстоящей службы, Жора, помнится, сказал что-то об этих своенравных портянках. Но Ива поспешил перейти на другую тему — показалось неловким говорить с Жорой-моряком о вещах, которые тому уже никогда не понадобятся.
Прощаясь с ними, Жора сказал:
— Чего бы вам подарить, ребята, на память? Абажур не годится, не тот случай…
— Да не надо ничего… — начал было Минас.
— Тихо! — прервал его Жора-моряк. — Не сбивай с мысли… О! Знаю! Есть у меня две нужные военному человеку вещицы. Конечно, лучше, чтоб у вас не дошло до них дело, потому как страшное оно… И все же всякое может случиться, война еще не кончилась.
Он дотянулся до висящей на стене картины, снял ее. За ней на двух гвоздях висели короткие ножи с черными рукоятками, отделанными медью.
— Немецкая работа. — Жора расстегнул ремешок, вынул один из ножей. Ослепительно блеснуло широкое лезвие. — Настоящая золингеновская сталь. — Он повернул лезвие к свету. — Видали, что написано?.. «Все для Германии», поняли, как они? Здесь еще на ручке орел был со свастикой, да я сковырнул, нечего ему красоваться… Так что берите на память и… пусть они вам не пригодятся!..
Как выяснилось, Ромка тоже получил подарок от Жоры-моряка. Но об этом Ива и Минас узнали гораздо позже.
* * *
Свой отъезд Ива представлял совсем не так, как получилось в действительности. Он помнил проводы Кубика: забитые эшелонами запасные пути товарной станции, танки на платформах и часовые возле них. Жаль, конечно, что не было тогда оркестра, столь необходимого в подобных случаях.
А теперь вот оркестр был, зато отсутствовало все остальное: эшелоны, часовые, сидящие в теплушках солдаты. Был обычный пассажирский поезд, который предстояло взять с боя, потому что проездные документы в райвоенкомате выписали, разумеется, в бесплацкартный вагон.
Вадимин и Рэма должны были ехать отдельно, в другом вагоне.
— Очень хорошо, — сказал Ромка, — мы своей компанией поедем…
По старой памяти он предпочитал быть подальше от глаз учителя. Бывшего, не бывшего, какая разница.
Оркестр на вокзале играл без передышки. Не в честь отъезжающих новобранцев, а совсем по другому случаю — в гастрольную поездку отправлялись артисты филармонии. Вот и стоял оркестр возле двух, дополнительно подцепленных к составу вагонов и играл в полную силу подряд весь свой репертуар: арии из оперетт, лезгинку, полонез Огинского. А Иве было грустно. Уж лучше б он замолчал, этот громыхающий оркестр, чем играть то, что не положено играть, когда уезжают из дома солдаты.
Провожающих пришло много. Почти весь дом был здесь, на перроне вокзала. Мадам Флигель плакала, держа Рэму за обе руки, родители Минаса тоже плакали, и кое-кто из соседей начал было прикладывать к глазам платки.
«Да будет вам, право! — хотелось крикнуть Иве. — Что вы это? Разве можно так, словно хороните. Мы вернемся назад, все будет в порядке, не бойтесь за нас, мы вернемся!..»
И тут, будто подслушав его мысли, оркестр стих на секунду и заиграл наконец то, что нужно играть, провожая солдат:
В тоске и тревоге
Не стой на пороге,
Я вернусь, когда растает снег…
Ива стоял на подножке, глядел поверх голов провожающих и первым увидел Жору-моряка. Тот вышел из машины, расплатился с шофером и, тяжело переставляя костыли, пошел по перрону. На Жоре были новенькая форменка и идеально отутюженные клеши. Медаль «За оборону Кавказа» покачивалась на груди.
«А он, оказывается, высокий ростом… — подумал Ива и, спрыгнув с подножки, побежал к Жоре-моряку. — Был человек высокого роста, и никто не знал, привыкли, что он на тележке. Эх!..»
Страшное ощущение какой-то необъяснимой вины перед этим человеком охватило Иву. Он не понимал, в чем именно виноват и почему только сейчас вдруг ощутил это, но тем не менее не в силах был избавиться от охватившего его чувства.
— Мы здесь, Жора! — кричал Ива, пробиваясь через толпу. — Здесь мы, у седьмого вагона!..
Отправление поезда задерживалось, на выходной стрелке упрямо горел красный глаз семафора. Устав плакать, мадам Флигель принялась что-то сердито выговаривать Рэме, и та слушала ее не перебивая, все поглаживая по плечу.
— Без мест останетесь, ни одного свободного уже нет! — кричал Иве и Минасу Ромка.
Он успел занять верхнюю полку и теперь лежал на ней, выставив голову в приоткрытое окно.
— Где ты положил хачапури? — в который раз спрашивала его мать.
— Нигде. Я съел их, пока теплые были…
Родители Минаса без конца клали в его вещмешок свертки и кулечки, вынимали их обратно, перекладывали. На каждом была наклеена бумажка с указанием, что за снедь в свертке и в какую очередь она должна быть съедена. Минас смущенно переминался с ноги на ногу, плохо намотанные портянки натерли ему под лодыжками, гимнастерка жала в плечах.
Наконец раздался пронзительный свисток. Паровоз ответил басом, и сразу потух красный глаз семафора, зажегся зеленый.
«Зеленый цвет прекрасен, это цвет надежды», — любил повторять Ивин отец.
Вот он стоит сейчас на перроне, его отпустили с завода проводить сына, и он впервые привинтил к лацкану пиджака свой орден. А рядом мама. И не плачет, молодцом держится! Ива сделал шаг к подножке вагона. Что-то еще должно было произойти? Обязательно должно. Но что?..
Он оглянулся, словно ища ответа. И тут к нему подошла Джулька. Протянула коробку из белого картона.
— Это тебе на дорогу, — сказала она.
— Спасибо, только зачем?.. — начал было Ива.
Но Джулька прикоснулась к его губам пальцами, как бы заранее не соглашаясь со всеми этими ненужными словами, которые некогда говорить сейчас, за секунду до отхода поезда. Не надо забывать, куда едут в этом поезде, не надо тратить время на вежливые слова…
Прозрачные Джулькины глаза были совсем рядом, Ива смотрел в них не отрываясь.
Забравшиеся в вагон оркестранты продолжали играть, выставив в окна свои трубы, кричала что-то мадам Флигель, но Ива ничего не слышал, он смотрел в Джулькины глаза.
— Я буду ждать тебя — сказала она и поцеловала Иву в губы. При всех, не стесняясь — это же была Джулька.
Поезд тронулся, Ива вскочил на подножку. Джулька пошла рядом. Красивая и независимая, она шла, держа Иву за руку.
Но поезду было некогда, он вез солдат и поэтому спешил. Джулькины пальцы выскользнули из Ивиной ладони. Мелькнули последние столбы вокзального перрона.
— Я буду ждать тебя!..
* * *
Ива часто вспоминал проведенную в пути неделю, что навсегда отделила его от привычной домашней жизни. Все в этой жизни казалось устойчивым и понятным, и можно было с уверенностью предсказывать события, которые произойдут завтра или послезавтра. И, самое главное, вокруг Ивы находились одни и те же люди, хорошо знакомые и не очень, но всегда было понятно, что следует ждать от каждого из них, а чего ждать не следует. Соразмерно с этим знанием строились отношения, и все было в них объяснимо и ясно.
К тому же надо добавить еще одно немаловажное обстоятельство: Ива ни разу за свои восемнадцать лет никуда не уезжал один. До войны он ежегодно отправлялся с родителями к бабушке, в маленький приморский городок, и на этом, пожалуй, весь его небольшой опыт путешественника исчерпывался.
А путешественнику опыт необходим. Совершенно неважно, что это за путешественник — первопроходец, пробирающийся по сибирской тайге или амазонской сельве, или просто человек, едущий в бесплацкартном вагоне обычного пассажирского поезда.
Уже потом, по прошествии времени, Ива понял, что восемь дней, проведенные им в дороге, сделали из него совсем другого человека, куда более решительного и предприимчивого. Даже вернись он сразу после этих восьми дней домой, его просто не узнали бы.