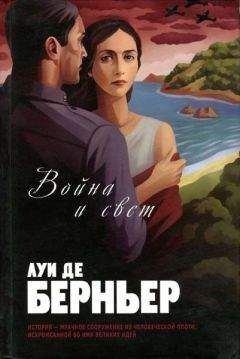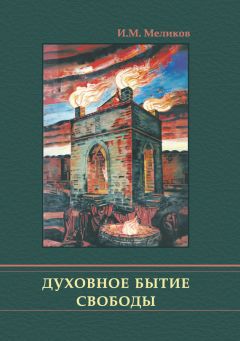— Ешь, мой лев, ешь.
Рустэм-бей прикрыл глаза, отдаваясь вкусу.
— Как много чеснока, — то и дело повторял он. — Я никогда не ел столько чеснока.
Дрозды и соловьи начали свои арии, вдали безутешная мать оплакивала убиенных сыновей. Пронзительно вскрикнула сова, следом ухнула другая. Чуть щербатая луна походила на лебедя, плывущего по темному озеру. Бесчисленные огоньки неспешно бродили по дворику, все казалось нереальным.
Лейла скармливала своему господину кусочки барашка, припевая:
— Ешь, мой лев, ешь.
Чесночный дух наполнял голову и пьянил Рустэма. В промежутках между угощениями Лейла подавала бокалы воды с лимонным соком, чтобы ага прополоскал рот. Затем подносила стаканы с верблюжьим молоком, сдобренным медом и специями, и следила, чтобы все выпивалось до дна.
— Какой странный, удивительный вкус! — сказал Рустэм-бей.
Памук сидела поблизости, терпеливо дожидаясь, когда ей сбросят объедки.
Слуга принес небольшое глиняное блюдо и поднял крышку. Пар рассеялся, и Рустэм-бей воскликнул:
— Целая головка чеснока!
— Запеченная с шелухой в оливковом масле. — Лейла отломила зубок и выдавила сладкую мякоть из хрустящей золотистой кожицы на ломтик хлеба. — Ешь.
Отведав, Рустэм-бей покачал головой:
— Поразительно! У меня в жизни не было такого пира, даже на свадьбе!
— Ешь, — говорила Лейла. — Сластей не будет, вкус не перебьется. У нас только это. Ешь.
Когда Рустэм-бей, перепробовав все блюда, насытился, Лейла скрылась в кухне. Поставив маленький медный джезвэ на угли, она дождалась волшебного момента, когда поднявшаяся кофейная пенка вот-вот побежит через край, и сняла кофе с жаровни. Дала гуще осесть, снова поставила турку на угли и снова дождалась, когда поднимется пенка, и лишь после этого, осторожно налив кофе в чашечку, подала напиток Рустэм-бею. Слуга принес кальян и щипцы с угольком. Потягивая кофе, Рустэм вдыхал прохладный пьянящий дым с незнакомым насыщенным вкусом и будто плыл по волнам. Слуга поставил медный горшок с горячими угольками. Лейла достала из полотняного мешочка горсть чесночной шелухи и высыпала в горшок.
— Понюхай, — предложила она.
Рустэм-бей наклонился и уловил сильное, но тонкое и нежное благоухание. Он посмотрел на звезды и луну, на блуждающие огоньки свечей, потом взглянул на Лейлу, не спускавшую с него глаз.
— Все дни, что мне еще отпущены, — сказал Рустэм-бей, — я буду помнить эту ночь, пир, чудесные огоньки и твою несравненную красоту, ханым. Что может быть лучше? Остается только умереть.
— Я спою тебе. — Лейла хлопнула в ладоши, и слуга вынес лютню. Усевшись по-турецки на подушках, девушка подстроила инструмент и стала перебирать струны длинным медиатором, вырезанным из вишни. Из быстрых переборов, пауз и пассажей собралась чуть грустная мелодия, и Лейла запела, не сводя с Рустэма взгляда, словно гипнотизируя:
Мой лев, была ночь, и я поцеловала тебя.
Кто это видел?
Видели ночные звезды, и видела луна.
Луна поведала морю,
Море — веслу.
Весло — моряку.
Ты поцеловал меня,
И на твоих губах осталась моя помада.
Кто это видел?
Увидел орел и полетел
Искать столь красный цвет.
Он отыскал его
На губах принцессы.
Зажжем фонарь
И пойдем на берег.
Там волны высоки
И унесут нас в море.
Что из того?
Мы обернемся лодками,
И руки наши станут веслами.
— Спой что-нибудь печальное, — попросил Рустэм-бей. — Так много счастья в одну ночь, еще кто-нибудь сглазит.
Лейла провела по струнам, настроилась и запела низким от скорби голосом:
Когда подступит смерть,
Хочу лишь
Умереть я там,
Где родилась.
Жизнь тягостна,
Но нескончаема.
Лейла вдруг оборвала песню. Рустэм-бей взглянул на нее, она в ответ улыбнулась, но он спросил:
— Ты плачешь? У тебя на глазах слезы.
— Не могу сдержаться, это грустная песня. — Лейла отерла глаза рукавом. — Мне никогда не увидеть родины.
Потом она снова запела:
Где посадить тебя, красная роза?
На берегу?
Там сорвут моряки.
В горах?
Там холод убьет.
Я посажу тебя у мечети,
Я посажу тебя у церкви
Подле красивой святой гробницы,
Меж двух яблонь
И двух померанцев.
Пусть осыплют тебя
Их цветы и плоды,
Моя красная роза,
И сама я усну
Подле тебя.
Нежный голос Лейлы, полный страсти и печали, разносился над городом, отдаваясь эхом в развалинах ликийских гробниц, где на плитах лежал и слушал Пес.
— Смотри-ка, соловьи замолкли, — сказал Рустэм-бей.
Они помолчали. В городе женщины строгого нрава и суровые мужчины, все добрые мусульмане и христиане, сидя в комнатках, неодобрительно цокали языками:
— Прям не знаю, что случилось с нашим Рустэм-беем! Сначала привозит себе шлюху, а теперь она еще играет на лютне, как мужчина, и распевает. Позор! Так нельзя! Это неприлично! А мы должны сидеть и слушать? Куда катится мир?!
Лейла и Рустэм-бей, забыв обо всем, смотрели друг другу в глаза. Мир стал очень маленьким. Лейла медленно подалась вперед и нежно поцеловала Рустэма в губы. Уголки ее рта поползли вверх в легкой улыбке, она отодвинула лютню и запела тихо, ласково и сладострастно:
Мои уста — сахар,
Ланиты — яблоко,
Перси — рай,
А тело — лилия.
О, мой лев!
Я жду,
Чтобы ты
Отведал сахара,
Откусил яблока,
Распахнул рай
И завладел лилией.
В наступившей тишине ухнула сова. Рустэма накрыла волна, сродни опьянению. Лейла осторожно положила лютню на подушку, поднялась и отбросила назад волосы.
— Пойдем, — сказала она, протягивая руку. — Пора. Ночь тепла и добра. Орел должен наконец-то прилететь в гнездо.
Многие считали, что Али прозвали «снегоносом», потому что он таскает с гор лед, но на самом деле эта кличка досталась ему оттого, что в ночь его рождения впервые за семьдесят пять лет выпал снег.
Весь день над прибрежной равниной, охваченной холодом, стояла неестественная тишина. Люди притоптывали и ворчали. Избалованные неизменно мягким климатом, они сделались изнеженнее других обитателей анатолийских просторов. Лишь охотники и пастухи сталкивались на горных склонах с таким пронизывающим холодом. Поздно вечером воздух зашевелился — с северо-востока подул борей. Старики, ожидавшие конца света, зловеще забормотали, что сейчас полагается дуть южным ветрам и этот неурочный режущий ветер ничего хорошего не сулит. Холодало, небо затянули тяжелые неуклюжие тучи, и сумерки внезапно почернели.
Едва стихли крики роженицы, матери Али, как изумленные люди, высыпавшие из домов, узрели белые хлопья, что опускались на город. Собаки визгливо лаяли, скакали на задних лапах и, тряся башками, пытались цапнуть снежинки, а озябшие горожане толпились на холодных темных улицах и дивились бесшумному небывалому кружению. «Чок гюзель! Чок гюзель!»[47] восклицали они, никогда не видевшие снега и восхищенные его первозданной новизной, а дети ловили снег на язык или сгребали ладошками и запихивали в рот.
Снегу нападало всего с пол-ладони глубиной, и к утру он растаял, оставив после себя лишь новорожденное дитя и общую память с привкусом историй об утраченном рае и земле обетованной. Али повезло — он как физическое воплощение этой памяти всю жизнь сознавал себя особенным, не зря отмеченным провидением, хотя на своем веку не совершил ничего выдающегося, за исключением одного благородного поступка во время исхода. Он всем объяснял, что не только ослица у него истинно мусульманская — абсолютно коричневая и без креста на загривке, но и сам он тратит жизнь на доставку с гор льда, потому что он — Али-снегонос, а вовсе не потому он Али-снегонос, что таскает лед с гор.
Однако он сыграл свою маленькую роль в небольшой драме жизни Филотеи, которой к тому времени исполнилось четырнадцать и которая, как и все другие, знать не знала о большом мире, что балансировал на краю первой в своей истории массовой бойни, поставленной на поток. Девушка расцвела в столь очаровательную и неотразимую красавицу, что ни один мужчина в городе не мог оставаться равнодушным.
Слепленная природой и заботливым, любовным попечением Лейлы-ханым, Филотея хорошела день ото дня, пока не стала ослепительной, как Селена. Даже щедрую душой Лейлу присутствие рядом прелестной девушки начало тревожить. Замечая, что печальный взгляд Рустэм-бея все чаще останавливается на ее компаньонке, и в нем на миг вспыхивают радость и восторг, она старалась подавить скребущую горло ревность самки.