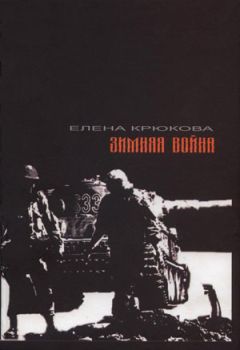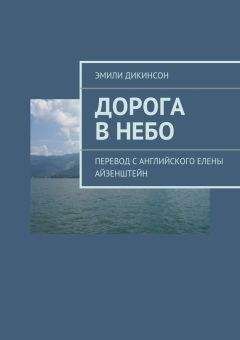Они бежали, отдуваясь, вспотев, дальше, мокрые как мыши. Сумасшедшая держала его за руку. Так рак клешней вцепляется в живое мясо, до крови. Дальше! Вот он, дом. Вот она лестница. Они задыхаются, оглядываются: куда?! Лифт не работает. Из двери лифта торчит пьяная недвижная нога. Опять там кто-то храпит. Вверх! Давай скорей вверх! До одышки и хрипоты. Пот течет холодным ручьем меж лопаток. Какая квартира, номер?!.. Что ты молчишь?!.. Номер содран. Дверь распахнута. Черный зев чужого пространства, смеясь, заглатывает их. Они вбегают, и сумасшедшая кричит истошно:
— Вот — здесь!
Его взгляд скользит по утвари. Все нищее, обтерханное, бедняцкое, потертое, допотопное, и шикарна, чужеродна здесь лишь огромная китайская ваза на грязном столе — на боку вазы изображен юноша на коленях перед царственной старухой на фоне снежной горы — Фудзияма?.. Гималаи?.. кто знает… Рядом с вазой лежит кусок угля. Поодаль — лук, сало… хлеб. В шкафу — старая пустая бутылка из-под коньяка чуть отсвечивает зеленым кошачьим глазом.
Глядите, ребята. На полу в комнате, под вашими ногами, лежит человек. Мертвец? Может быть. Юргенс треплет его за плечи, бьет по щекам, дергает за уши. Оживи! Эй, брось! Хватит играть в смерть! Тебя ж не на Войне убили!
Склоняется над ним. Ухом, губами ищет его дыханье. Напрасно.
Помощь! Скорей! Звонить! Ты, дурочка!.. ты зачем меня сюда приволокла… чтоб я лишний раз на мертвеца поглядел?!.. мало их я на Зимней Войне видал… Милиция, морг… да нет, «скорая», еще «скорая», еще мы успеем! Успеть! Бежать! Он оттолкнул ее. Толкнул сумасшедшую в грудь. Он сделал ей больно. Она застонала и скорчилась. Он скатился кубарем по лестнице, вниз, и ему под ноги бросился и поплыл у него под ногами черный и желтый, жирный лед улицы. О, зима. О, вечная зима. Народу на улице — никого. Все вымерли. Все умерли. Или убиты. И кости уже истлели в земле. Он бросился назад в дом, в огромный мертвый молчащий дом; звонил, стучал, ломился во все закрытые на замки и щеколды двери, бился телом, локтями, головой о холодные доски — так бьется живой человек, очнувшийся во гробе, похороненный заживо, о черные вечные доски свои.
Опять оголтело и слепо он выбежал на улицу. Где ты, дурочка?! Нет дурочки. Убежала дурочка. Привела его сюда, в этот темный дом, и убежала. А завтра ему опять на фронт. Смерть человека — это тоже фронт. Передовая. Мы всегда умираем в одиночку. Кто этот мертвец?! Почему она притащила его сюда?! Он побежал вдоль домов, по улице, стал стучаться куда попало — в магазины, в запертые лавки, в санэпидстанцию, в детский сад, в автоинспекцию — все было закрыто; все спало мертвецким сном. В России все и всегда спит крепким сном, сном лени и забвенья. Вечный сон. Вечное воскресенье. У нас всегда вечное воскресенье, он и забыл. Да воскреснет воскресенье. А мертвец никогда не воскреснет.
А на Страшном Суде?!
А там, на полу, лежит человек, и он умирает — или уже умер?!.. — а он тут носится бестолково по гололедной улице, как каракатица. И никого. Ни души. Все молчат. Все на замке. Все — умерло.
И страшно кричит он:
— Эй! Люди! Кто-нибудь! Хоть кто-нибудь!
И слышит он мерный, медленный голос, потусторонний:
ИДЕЖЕ НЕСТЬ НИ СКОРБЬ НИ ПЕЧАЛЬ НИ ВОЗДЫХАНЬЕ НО ЖИЗНЬ БЕСКОНЕЧНАЯ
Да, сегодня воскресенье. Все умершие сегодня могут воскреснуть сами. Без Божьей помощи скорой. И без людской. Воскресенье из мертвых?! А разве сам он, Юргенс, не воскрес из мертвых, вернувшись живым с Зимней Войны, с которой редко кто так просто возвращается?! Его возвращенье ничего не значит. Его завтра упекут туда опять. Он — в увольнительной. Он в отпуску. Он не дезертир; он просто взял тайм-аут. К службе — годен. Диспансеризацию — проходил сто раз и еще пройдет, и ни сучка ни задоринки у него не найдут, ни опухоли с голубиное яйцо, ни трещины в кости, — только шрамы бессчетные сочтут и посмеются: «Красавец». А… где же эта больная девочка, умалишенненькая, что его сюда как на аркане приволокла, — у него, марш-броски совершавшего, чуть сердце из ребер не выпрыгнуло, так быстро она бежала?..
Он оглянулся — туда, сюда. Не было девчонки. Была ночь. Улица блестела зловеще, как черная гнилозубая улыбка. Это была ухмылка Армагеддона — он понимал.
— Подари мне подарок, град Армагеддон, — шепнул он пересохшими губами. — Зря я в тебя вернулся, что ли?!.. Не хочешь подарить — продай. Я все куплю. Цена — жизнь. Дороже ничего за пазухой не держу, извини.
Он разлепил глаза. Лица, людские лица наклонялись над ним. Выплывали из тумана.
В него стреляли… его спасли. Откуда вынули его?!..
Никто не знает.
Он поймал напрягшимся слухом французский птичий щебет. Черные глаза над белой глухой маской, закрывшей пол-лица, жалостно и любопытствуя глядели на него.
— Не бойтесь, вы в безопасности. — Он зажмурился и помотал головой, ловя иноземную речь. — Вас немножко подранили, но ведь вам не привыкать. Сейчас я принесу вам лекарство, и вы выпьете пилюлю. Укол — позже. Хотите есть? Я принесу вам круассан с абрикосовым вареньем…
— Это… Париж?.. — бормотнул он запекшимся ртом. Над черными женскими глазами согласно наклонились ресницы.
— Это Париж. Вас вытащили из-под пуль той мадмуазель… из-под колес той машины. Когда она расстреляла все патроны, она попыталась на вас наехать. Вас выдернули вовремя. Вы ничего не помните?
— К сожаленью. — Он ощупал голову, она была вся, как белая кукла, закутана плотно наложенными бинтами. — Принесите мне ваш круассан… и пить. Много питья. Если можно… молока.
— Молока вам нельзя. Можно морс, сок, чай.
— Крепкого чаю… а китайский есть… зеленый?.. вот туда молочка бы налить хоть чуть-чуть…
Он понял, почувствовал улыбку милосердной сестры под марлевой белоснежной маской. Она встала, выгнув спину по-кошачьи.
— Я сделаю вам люй-ча. С топленым молоком. Но немного.
— Пакет… — он дернулся всем телом. — Пакет!.. В карманах моего пиджака… не было пакета?.. в прозрачной пленке, в целлофане… такого квадратного?.. это важно… это…
Сестра наклонилась над ним, нежно погладила его ладонью по мигом вспотевшему лбу.
— Успокойтесь, — тихо, вкрадчиво протянула она, вздохнула. — Когда вас принесли сюда, в клинику, на вас не было никакого пиджака. Только рубашка. Белая крахмальная рубашка фирмы «Живанши». И никаких пиджаков, плащей. Хотя зима… знаете, ветрено…
Он застонал, сделал попытку перевернуться в койке на бок, вскрикнул от боли. Все погибло. Генерал Ингвар велит его расстрелять. Он не повернул руль. Он прошляпил судьбу Зимней Войны. А он держал ее в руках. Как жену… как любовницу… как Воспителлу. Там самолеты. Там разрывы. Там Черный Ангел летит, прошивая острой иглой истребителя тучи, и из туч льется кровь, льются красные дожди на белую выстывшую землю. А наши люди?! Русские люди, по тайгам и островам, за решетками, в застенках, в чернобревенных бараках, на диких рабьих работах?! Война идет — и снаружи, и внутри. Война идет, обнимает нас, и мы в кольце ее рук. Как он мог так проколоться?! Ян… Марко… они убьют его. Они не будут дожидаться приговора генерала. У Люка много рецептов, как найти, достигнуть, укокошить. Война идет и здесь, в Париже. И в Лондоне идет. И в громадном городе там, за Океаном, что почище нашего Армагеддона будет. Люк. Он знает все про иглы, яды, случайно вывернувшиеся из-за угла машины. Стоп. Может быть… он и эту черненькую… эту ласточку в мерседесе… подослал… может, они играют в плохую игру, хотят обойти Ингвара на повороте?!.. Это закрытый поворот, Лех. Это их междусобойчик. Пусть они все хоть перегрызутся. Как собаки. Собаки. Собаки!
Он выгнулся, как в приступе столбняка, и мучительный стон вылетел из его глотки, ударил в стерильную маску наклонившейся над ним сестры. Она отшатнулась, закрыла глаза рукой.
Горы. Снег. Ветер. Вышка. Солдат торчит на вышке. Стоит, бедный, ежится. Автомат через плечо. Щурится: снег слепит глаза, хоть день и пасмурный. Под вышкой стоит женщина. Она в солдатской гимнастерке, на ее голове залихватская пилотка, а плечи — от ветра и мороза — укутаны в легкий короткий, на овечьем меху, тулупчик. Ветром тулупчик подбит, заплатами покрыт. Кого ты ждешь, женщина? Золотая серьга у тебя в ухе горит. А солдата одного, мужа своего! Да он тебе не муж. Он армейский хахаль твой. А я все равно его жду. Да ведь он приехал. Вернулся. Он тебя сейчас взгреет. Женщина закинула голову к небу, раздула ноздри, впивая колючий ветер. Щеки ее разрумянились. Она вытащила из кармана сигаретку и с трудом, прикрывая пламя зажигалки ладонью, зажимая огонь в кулак, прикурила на ветру. За что ему меня взгреть? А за то. За твоего ослепительного офицера. За твоего блестящего капитана Серебрякова. А не заводи шашни. Не гуляй с офицерьем. Твой мужик — простой солдат. А ты его предала.
Женщина зябко свела плечи, запахнула сильней тулупчик на груди. Длинно затянулась едким дымом самокрутки, задохнулась. Выкинула табачную соску в сугроб.