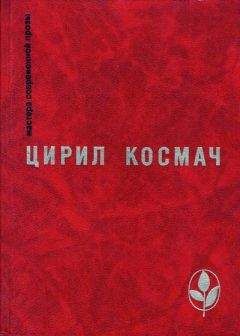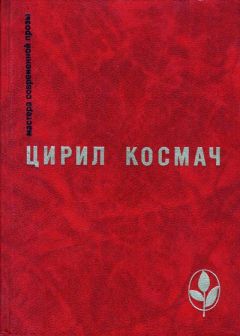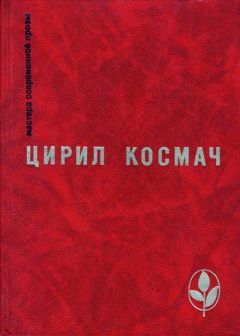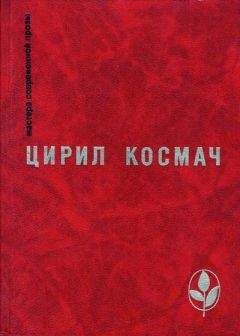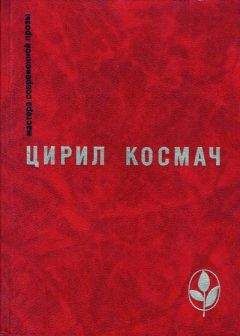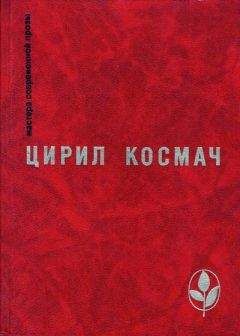— Наконец-то я дома!.. Через пятнадцать лет снова под родной крышей!..
Я улегся навзничь и жадно, с наслаждением вобрал в себя воздух. Он был мягкий, густой и приятно прохладный, как темное вино. Тотчас я ощутил в своих жилах новую, пьянящую силу, шаловливую радость. Я подложил руки под затылок и отдался на волю шумливых валов весенней ночи. Меня подхватило и понесло все выше и выше. И скоро подняло на такую высоту, что я с неподдельным жаром юности, дремлющей во мне, начал вполголоса декламировать:
О гордый дом, твоим огням, как прежде, сердце радо.
Ты крепость бедняка, и ты — для странника отрада.
Покинул голубь край чужой, чтоб на тебя взглянуть.
Тоска по родине ему указывает путь.
Слова прозвучали весомо и торжественно, словно после глубокого столетнего молчания свободно разнесся гимн угнетенного народа. От напевных звуков ширились грудь и сердце. Но вдруг сердце отозвалось щемящей нотой, такой пронзительной и сильной, что порыв восторга угас.
«Да, так! — вздохнул я. — Тоска по родине все эти бродяжьи годы указывала мне путь. Я нашел свой край… А в том краю…»
Суровая реальность встала передо мною, как скала с острыми гранями. И я ударился об нее. Тихое и чистое счастье всколыхнулось и помутнело. Стихи зазвучали снова. Слова оставались торжественными и полновесными, но звучали сумрачно и горько:
Пылает дом, и голубей над ним летает стая белая.
Оплакивает мысль моя отечество осиротелое.
Он наступил, наш черный день, и кто куда мы разошлись —
куда огонь души нас вел, куда нас разгоняла жизнь.
Упала молния с небес, и мы по свету разметались,
и только ласточки одни под крышею родной остались[3].
С тики потонули среди моих горестных и гневных мыслей. Да, все, что сказал поэт, верно, все, — только надежного крова не было нигде! И наш одинокий домишко на отшибе тоже не был им! Эта война, точно гигантский, добела раскаленный каток, разутюжила страну вдоль и поперек. Все порушила, всех раскидала. И нашу семью тоже. Семеро было нас под этой крышей. А теперь? Я вернулся, но нашел лишь одну из ласточек — нашу щупленькую тетю: она бережет это гнездо, насчитывающее уже триста лет, и ждет, когда птицы вернутся. А вернутся ли? Брат и сестры вернутся — я знаю, они живы, а отца не будет никогда. Он ж дал-ждал, старый человек, дождался даже этой весны; всего какой-нибудь месяц назад последний зимний ветер развеял его пепел по холодной немецкой земле. Тетя еще не знает об этом. С первого дня свободы она проветривает его черный праздничный костюм под цветущими ветвями нашей старой груши. Увидев его вчера, я застыл на месте как вкопанный.
Я тряхнул головой, отгоняя это воспоминание, но оно не уходило. Я отчетливо видел самого себя: вот я выхожу из-за угла и останавливаюсь посреди двора. Тетя тоже остановилась, но только на миг. Она узнала меня и бросилась ко мне с таким счастливым вскриком, какого я никогда от нее не слыхал. Она сжала мои руки и прерывающимся голосом, всхлипывая, сказала все, что надо было сказать. Потом вытерла фартуком мокрые глаза, костлявыми пальцами подобрала седую прядь под выгоревший черный платок, окинула меня своим живым взглядом, счастливо повертела головой и обрадованно вздохнула:
— Ой, то-то отец тебе обрадуется!
Я оглянулся на черный костюм, который, как траурный флаг, слегка колыхался под весенним ветром. Тетя проследила за моим взглядом, улыбнулась и сказала радостно и горделиво:
— Его костюм. Два года прятала. В кладовке, в амбаре, в хлеву и на сеновале, в курятнике и в свином закуте — так из угла в угол и таскала… И не гляди на меня, все равно не угадаешь, зачем я его хоронила!
Я покачал головой.
— Подумать только, до чего бессердечные стали люди! — с гневом воскликнула она и сжала кулаки. — Ты просто не поверишь, но в тот же вечер, как отца угнали, приплелся к нам Заезарев Мартин и между двумя плевками табачной слюны преспокойно так говорит: «Анца, я за Андреевой одежей пришел». Известно, у Мартина и на полчеловека сердца не хватит, он уж тридцать лет гробы делает, но все-таки эти слова меня как ножом полоснули. Сам понимаешь, я не знала, что ответить. Но Мартин еще раз меня оглоушил, и на этот раз посильнее. «Самому ему уж наверняка ее таскать не придется!» — и тут он опять сплюнул и махнул рукой. У меня мороз по коже пробежал, но я ему сказала. «И тебе тоже не придется», — говорю. А у самой все так и кипит. Стыдно признаться, но как на духу тебе скажу — будь у меня тогда нож, так бы и бросилась на него. Но ножа не было, и я зашипела на него как змея: «Пьяница кладбищенский, ты уж живых хоронить собрался?» Мартин глянул на меня исподлобья, плюнул сквозь зубы и холодно так говорит: «Там и живых хоронят. Впрочем, я слыхал, их вообще не хоронят. Много чересчур. Говорят, их жгут в печах». Тут меня взорвало, и я как крикну: «А вот я сама растоплю печь да и сожгу его одежду! Дрова-то в доме есть!»
Тетя шумно перевела дух. Потом откинула со лба непокорную прядь, которая уже успела выбиться из-под платка, и ясными глазами посмотрела на меня — правда, мол, здорово она ему ответила?
— Это ты ему хорошо сказала, — с трудом выдавил я.
— Хорошо! — с достоинством согласилась она. — С тем он и убрался. Но когда он скрылся за хлевом, меня так и затрясло. Я попрятала все отцовы вещи, которые еще на что-то годились. А этот черный костюм — самый его любимый — перекладывала из угла в угол. Перекладывала и все время дрожала за него. Раза по три на день ходила смотреть, там ли он. И знаешь почему? Ой, ты не поверишь! Скажешь, что я старая дура. Да уж говори, так оно и есть! Понимаешь, меня уже в первую ночь во сне стукнуло: «Мартин — гробовщик! Не знак ли это, что отец не вернется?» Вздрогнула я и гляжу во все глаза в темноту. И тут мне что-то как зашепчет: «Сохранишь его костюм — он вернется, не убережешь — не вернется!» Я, конечно, понимала, что это бабья глупость. Но все-таки мне полегчало. Ты не представляешь, как я ухватилась за эту мысль! С души точно камень свалился. И когда мне встречался Мартин, я потихоньку посмеивалась над ним и грозила пальцем, точно над самой смертью насмехалась: «Ничего ты не получишь! Не получишь!»
Я уставился на ее костлявый, длинный, чуть искривленный палец, почти прозрачный в свете заходящего солнца. Потом посмотрел ей в глаза. В них смешались откровенный вопрос и затаенная гордость. Видимо, она ждала, что я скажу. А так как я молчал, она привычным жестом провела по лбу, хотя надоедливая прядь только чуть-чуть выглядывала из-под платка. Тетя покачала головой и вздохнула:
— Ну разве не чудно, а? Я хочу сказать — разве не чудно, что человеку лезут в голову такие мысли. После всего, что с нами происходило, это просто глупо. Правда?
— Ведь мы еще не знаем всего, что произошло, — с трудом проговорил я.
— Ох, и того, что мы знаем, предостаточно! — решительно отмахнулась тетка и снова провела рукой по лбу. — Я спрашиваю, глупые это мысли или нет? Ты мне прямо скажи!
— Разумеется, глупые, — еле выдавил я из себя.
— А они в меня как когтями вцепились! Только ты уж меня за них не кори! От веры старый человек еще как-то может отделаться, а от предрассудков — никогда!
— Наверно, это так, — сказал я.
— О, конечно, так! — кивнула тетка. — Ну, теперь по крайней мере с этим предрассудком покончено.
Она махнула рукой, подошла к висящему на веревке костюму и поправила рукав, зацепившийся за дичковую поросль, поднявшуюся от ствола усыхающей груши.
Потом со счастливым выражением на лице покачала головой и воскликнула:
— Подумай только, как он будет рад! Придет из лагеря грязный и оборванный. Бог знает, куда его загнали, беднягу, и где он скитается! И вот он вымоется и переоденется. Ты ведь знаешь, он всегда радовался, когда был хорошо одет.
— Знаю, знаю, — пробормотал я.
— А помнишь, как он, бывало, по воскресеньям оденется и ходит по комнате, выпрямившись, как струна! Повернется на каблуках, поведет плечами и оглядит себя. Мама над ним тихонько посмеивается, а потом всплеснет руками и скажет: «Ой, и до чего же ты красивый!» А он остановится, грудь еще больше выпятит, погладит ладонью нос и серьезно этак ответит: «Конечно, красивый!» Помнишь, как они оба потом смеялись?
— Помню, помню… — громче проговорил я, решительно сдвинулся с места и направился к двери.
— Мама и теперь бы над ним посмеивалась, если бы была жива, — продолжала тетка, идя за мной следом. — И над тобой посмеивалась, потому что ты тоже любил покрасоваться в новом костюме. Помнишь, она как-то сказала отцу: «Ох, этот Малый весь в тебя пошел! Ты только глянь на него! Точно он барином родился!» Отец усмехнулся, а потом сказал: «Нанца, мы с тобой еще порадуемся, если окажется, что он не рожден быть слугой!» И он прав был! Разве нет?