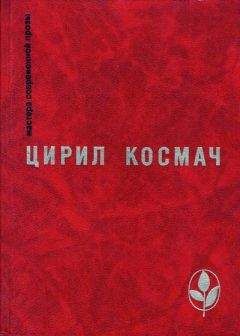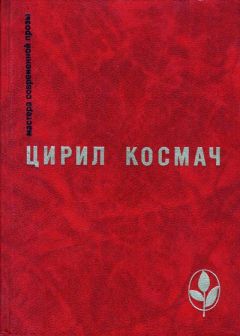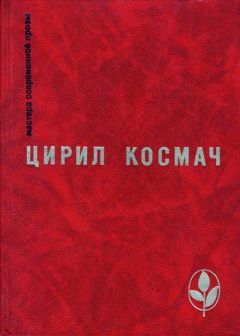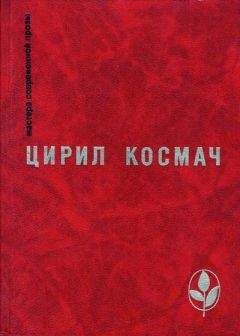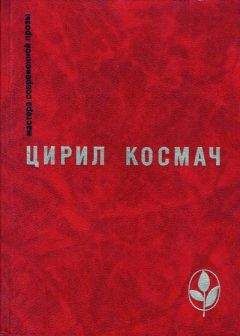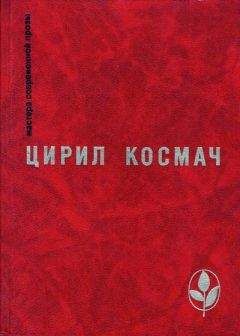— Не только мне! — возражает он. И вздыхает: — Эх, ты же знаешь, что я хочу сказать!..
Внизу, в долине, возникает резкий звук сирены полицейской машины. Мы инстинктивно приникаем к стволу, хотя здесь, в лесу, по ту сторону реки, нас никто не увидит этой снежной ночью. Из-за Доминова обрыва взмывает луч фар и пронизывает тьму, устремляясь прямо к нам. Отец смотрит на меня, кивает головой и шепчет:
— Видишь, вот о чем надо писать. И о нашей жизни вообще. Писать повести. Книги… Ты меня слушаешь?
— Слушаю…
Молчание. Только Идрийца шумит и снег, крадучись, скользит меж ветвей.
— Знаешь, когда ты был в гимназии и вы тайком учили словенский, директор мне сказал, что ты писал очень красивые сочинения на словенском. «И он пишет не только красиво, но и умно», — сказал он мне. И еще сказал: «Оратор из него не получится, а напишет он все, что захочет». Эти слова меня очень обрадовали… Ты меня слушаешь?
Я молчу. Горло у меня сдавлено, и мне стыдно, точно он меня спрашивает о любви. И я страшно боюсь, что он повторит свой вопрос. Надо что-то сказать, чтобы предупредить его. Но он опережает меня:
— Впрочем, кто теперь может что-нибудь об этом знать! Тебе всего только двадцать сравнялось… А если будешь писать, я, правда, буду рад.
Я продолжаю молчать, в горле по-прежнему давит, и мне стыдно. Нет, я должен что-то сказать. Но что?
— Когда мы опять увидимся? — наконец с трудом выжимаю я из себя. И сразу чувствую, что сказал не то. Правда, и эти слова надо было сказать. Но не сейчас. Зачем торопить минуту расставания!
Отец молчит. Потом прикрывает лицо рукой. Я вижу, что он задумался над моим вопросом, и жду ответа. После долгой паузы он проводит ладонью по горбинке носа, как всегда прежде чем сказать что-то важное.
— Если раньше не удастся, увидимся после войны… — очень медленно произносит он.
— После войны?..
— Конечно! А ты думаешь, итальянцы так просто выпустят нас из своих когтей?.. Хоть и страшна война, жажда справедливости еще страшнее. И пока все люди не получат своих прав, будут войны. Я читал об этом. И еще читал, что такие войны — справедливые… Ты меня слушаешь?
— Слушаю…
Молчание. Только Идрийца глухо шумит и снег, крадучись, скользит меж ветвей.
— Ну, а теперь ступай! Время не ждет, — решительно, почти нетерпеливо говорит отец и крепко стискивает мою руку. — Ступай! В добрый путь! В добрый путь, и не забывай, что от отчаяния скорей можно умереть, чем от голода!
— Я не забуду, нет… — выдавливаю я и торопливо устремляюсь вперед по заметенной снегом тропе. Прежде чем повернуть за скалу, я оборачиваюсь. Ночь плотна, снег валит густо, и все-таки я ясно вижу, как отец стоит, прислонясь к сосновому стволу, и смотрит на меня сквозь завесу падающих снежинок. Стоит неподвижно, а потом медленно-медленно поднимает руку и гонит меня прочь:
— Ступай!.. Ступай!..
Я обоими кулаками тру глаза. Потом начинаю лихорадочно шарить вокруг — где же топор, ведь я чувствовал в ладонях холодную сталь? Но под руками — теплое одеяло.
«Дурень!» — выругал я сам себя и оглядел чулан. Было тихо. Только Идрийца шумела невдалеке от дома, и шум этот был таким же приглушенным, как тогда, а лунный свет скользил между прутьями оконной решетки, как снег сквозь ветки. Мой взгляд сам собою остановился на двери — не отец ли стоит там, в тени, за завесой косо падающих лучей луны. Я помотал головой, чтобы и в самом деле не увидеть его.
«Нет, его нет!» — твердо сказал я себе. Его нет, хоть я и видел его как наяву минуту назад. Минуту назад? Неужели целых пятнадцать лет прошло с той снежной январской ночи, когда я бежал из дома? Тогда мне было двадцать лет, сейчас идет тридцать пятый!.. Как летит время! Пятнадцать лет! И что это? Всего лишь продлившееся мгновение! А сколько было в этом мгновении голода и отчаяния! Больше некуда! И все-таки я выжил. Да что там! Даже успел забыть о голоде, об отчаянии и о других тяготах повседневного бытия, ибо все это в конечном итоге лишь серое море, которое нужно для того, чтобы по нему плыли белые парусники наших счастливых мгновений… Об этой жизни, которая стоит того, чтобы жить, мы бы теперь говорили с отцом, будь он жив, потому что он умер не от голода и не от отчаяния. Его убили!..
Последние два слова вцепились в меня точно клещами и начали ломать челюсти. Я сердито сжал зубы и одернул себя: «Тебе тридцать пять! Разве не пора уже быть мужчиной и научиться таить свою боль? И наконец, не эгоизм ли это? Разве у тебя одного убили отца? Нет! В нашей стране почти не осталось крова, под которым в эти ночные часы не падала бы капля горечи в чашу шумного праздника. Таковы праздники победы у людей. Павшие придают им цену, как горечь придает вину терпкий, но мужественный вкус. И с таким ощущением в душе мы славили свой праздник! А теперь мы, живые, отдыхаем. Во сне слезы омывают наш смех, чтобы он был ясен и чист. За стенами в ночи распростерлась наша родина, разоренная и покрытая пожарищами, залитая лунным светом и похожая на мертвую луну — так же нарезана на неровные, угловатые светлые и темные плоскости. Тихая она, но не мертвая. Густо населена теми, кого уже нет».
«Перестань! Перестань! — резко оборвал меня рассудок, который часто насмехается над моим сердцем. — Не ораторствуй! Не разводи патетики! Великие события не нуждаются в громких словах! Спи!»
Я послушно и даже слегка пристыженно закрыл глаза. Но напрасно. Пламень чувств так разжег мое воображение, что передо мной как наяву возникла картина объятого ночью словенского края. Я видел, как со всех сторон встают народные армии. Идут из деревень, из городов, с хуторов. Парни, мужчины, девушки. Женщины, дети, старики. Голодные, разутые, безоружные. И все-таки идут в бой, идут отважно, упрямо, дерзко. Тысячи и тысячи испитых, но гордых лиц проплывали мимо меня, твердым шагом люди уходили в грозовую тьму, навстречу грохоту и сполохам молний. Я вглядывался в это потрясающее, могучее видение и сам не заметил, как зазвучала в моей памяти баллада Теннисона:
Cannon to right of them.
Cannon to left of them,
Cannon in front of them.
Volley’d and thunder’d,
Storm’d at with shot and shell.
Boldly they rode and well,
into the jaws of Death.
Into the mouth of Hell
Rode the six hundred.
When can their glory fade?
Oh the wild charge they made!
All the world wonder’d.
Honour the charge they made!
Honour the Light Brigade.
Noble six hundred[4].
Последние строки я произнес вслух, наверное, даже с пафосом, потому что мой собственный голос вывел меня из забытья. Потрясающее, могучее видение, возникшее в моем разгоряченном воображении, тотчас исчезло.
«И чего это я так разорался по-английски?» — опомнился я.
«Теннисона декламируешь. «The Charge of the Light Brigade», — презрительно пояснил рассудок.
— Знаю, — пробормотал я и вздрогнул от холода. «И знаю еще, что каждое стихотворение, каждая мысль, каждое слово — только звено в цепи, которая вытягивает из глубин памяти то, от чего становится больно и горько». Тоска и угрызения совести уже щемили сердце — передо мной разворачивалась картина, которую я хотел бы навсегда забыть.
Ярко освещенный зал отеля. Торжественный банкет в честь высших офицеров войск союзников, которые в первые же дни по окончании войны явились в Любляну, дабы поближе поглядеть на партизан, опрокинувших их расчеты и перед самым их носом вступивших в Триест. Хозяева в новеньких штатских костюмах, сидя за столом, накрытым белоснежной скатертью, со сверкающими приборами, белым фарфором, рюмками разных калибров и украшенным цветами, чувствуют себя, как рыба, вытащенная на берег, гости же в своей военной форме чувствуют себя, как рыба в воде, и восседают за столом так, словно все сражения провели в банкетных залах.
Пожилой, костистый британский генерал, постучав перстнем по бокалу, встает. Все стихает. Мы с любопытством настораживаемся. Только мой приятель, сидящий рядом со мной, не подымает головы, продолжая жадно есть, брякая ножом и вилкой по тарелке. Всего полчаса назад его привезли из Целовца. Два года он пробыл в Дахау, Бухенвальде и Маутхаузене, и партизаны, прорвавшиеся в Каринтию, примчались за ним, на машине привезли его в Любляну и привели прямо в этот зал, на банкет, который уже начался. На нем была еще лагерная одежда с номером на куртке. Мы повскакали из-за стола и радостно пожимали его руку. На его землистом лице не было улыбки, в глазах — ни искорки радости. С отсутствующим видом подавал он руку, которая и всегда была крупной, а теперь, отекшая, стала еще больше и плохо гнулась. При каждом рукопожатии бормотал что-то невнятное и от слишком яркого света то и дело щурил свои глубоко посаженные глаза. Короче говоря, вел себя так, будто его пробудили посреди глубокого сна и теперь толкали от одного незнакомца к другому. Как бы то ни было, после двух страшных лет он снова встретился со своими приятелями, политическими соратниками, друзьями по литературе. Посадили его рядом со мной. Мы были старинными приятелями, но он только хмуро кивнул мне и сразу же взялся за нож и вилку.