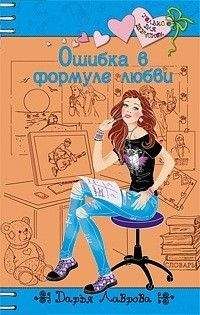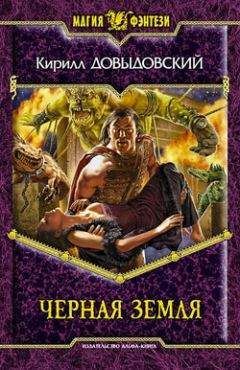"Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!
Простите, что долго не писал. Нас перебросили на другой участок. Был длительный марш, в котором было трудно выбрать время для писем. В связи с этим и от Вас я ничего не получил и получу, наверное, не скоро.
В первые дни на новом месте было много работы — копали землю. Но я думал о Вас все время.
Когда мы стояли недалеко от передовой, приезжала к нам кинопередвижка и крутила нам старый фильм — "Тайга золотая", а через несколько дней развлекли нас настоящие артисты. Ну, может, не очень настоящие, но все-таки… пропели "Катюшу", "В землянке" и какую-то глупую песенку про поваров и уехали. Мы остались не очень довольными. Хотелось бы чего-нибудь более серьезного. Но, правда, с удовольствием посмотрели на артисток в длинных концертных платьях, хотя было это и странно.
Мне уже кажется, что Москва, госпиталь были уже очень давно, а вот Вы будто только вчера расстался.
Как Вы живете? Ходите ли на танцы, в кино? Откровенно говоря, я очень боюсь, что Вам кто-нибудь понравится и Вы перестанете мне писать. Давайте договоримся, что, несмотря ни на что, Вы все равно будете присылать мне письма. Я так уже привык к ним, что без них мне будет очень трудно. Договорились?
Вы, конечно, читали "Гранатовый браслет" Куприна. Так вот, мне хочется в конце каждого своего письма писать то, что писал Желтков. Вы помните, что он писал? Разумеется, помните! Но мне неудобно, что я не нашел своих слов и повторяю чужие, поэтому не пишу их, но, честное слово, они выражают мои чувства к Вам…"
Конечно, я помнила эти слова! "Да святится имя Твое…" Бог ты мой, неужели я способна внушить такие чувства? Я даже немного обалдела. Я долго стояла в углу коридора, не двигаясь, сжимая письмо в руке, и от него по ней струилось вверх к моему сердцу что-то горячее, разлившееся потом по всему телу. Неужели у меня настоящая любовь? Самая-самая настоящая!
На свой пятый этаж я поднималась по лестнице не бегом, как обычно, а медленно, осторожно, словно боясь расплескать то, что находилось у меня в душе, а все встречные, удивляясь моей величавой неспешности и значительности на моем лице, разумеется, сразу догадывались о причине этого и спрашивали:
— Получила письмо, Нинок? — И, не дожидаясь моего ответа, добавляли: Конечно, получила. По мордахе видно.
Какое несчастье! Я совершенно не могу управлять своим лицом. Я словно открытая книга! И потому у меня не может быть никаких тайн. Все наружу. И что мне делать? Мне так хочется, чтоб у меня была тайна.
Видно, не надо было рассказывать девочкам о письмах Ведерникова, но я-то рассказала как курьез: лежал парень, лежал, чуть ли не три месяца, словом не обмолвился, а потом вдруг накатал почти любовное письмо. Смешно же? Вот и разболтала ради смеха. А сейчас жалею. Сейчас захотелось, чтоб ни одна душа не знала об этих письмах. Чтоб было это только мое… Может, написать ему свой адрес и попросить писать на квартиру? Но там мать. Начнутся расспросы. Не знаю, что делать.
Но пока-то все знали про мою переписку, и однажды подошла ко мне Клавка вальяжная такая сестра, очень красивая, на мой взгляд, с такой умопомрачительной походкой, что ранбольные любого возраста открывали рты и, замерев, провожали ее долгими взглядами, а лица у них становились совсем идиотскими, — и спросила меня, как всегда лениво цедя слова:
— У тебя что, серьезно с этим лейтенантиком?
— Ага. Очень, — ответила я.
Клавка снисходительно усмехнулась.
— Послушай меня, девочка. Ты еще совсем цыпленок, а поэтому слушай, что я тебе скажу. Знаешь, как проверить, серьезно он к тебе относится или просто со скуки пишет?
— Не знаю. Скажи, — заинтересовалась я.
— Намекни ему в письме, что у тебя очень тяжелая жизнь в материальном отношении, а это есть самая настоящая правда… Или ты, может, очень хорошо живешь?
— Нет, конечно.
— Ну так вот. И скажи, что некоторым девочкам их ребята высылают аттестаты. Если любят, конечно…
— Что ты, Клавка! — растерялась я.
— Ты слушай и не перебивай. Если он этот твой намек не поймет или, вернее, сделает вид, что не поймет, значит, это пустое дело, и ты плюнь. Нечего бумагу зря марать. Ну а если у парня серьезные намерения, то он твой намек поймет и вышлет аттестат. Поняла?
Я поняла! Но у меня было такое чувство, будто меня из помойного ведра окатили. Я поморщилась, но все-таки спросила Клавку:
— А тебе высылают?
— А как же! И не один…
— И ты за всех замуж обещалась выйти?
— Разумеется.
— А как же будет, если они все приедут?
— Глупенькая. Война еще ох какая долгая будет. Хорошо, если хоть один уцелеет.
Я не нашлась что сказать, а Клавка поплыла дальше, покачивая бедрами, а стоящие в коридоре на перекуре ранбольные ошалело глядели ей вслед до тех пор, пока она не завернула в процедурку, вильнув напоследок задом так, что ребята даже охнули.
Вот она какая, эта Клавка, оказалась, думала я, ища и не находя слова, каким ее можно обозвать. И только в туалете, в который я побежала мыть руки после этого разговора, у меня вспыхнуло в голове это слово — мародерка! Да, да, мародерка!
Весь этот день я ходила какая-то хмурая, все валилось из моих рук, и я стала как-то подозрительно поглядывать на всех наших девочек: неужели среди них есть тоже такие? Да нет! У нас чудесные девчушки — милые, добрые, чистые… Но ощущение, что меня вымазали в какой-то грязи, не проходило несколько дней…
"Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!"
(Это постоянное обращение — "Привет с фронта", которое первое время меня как-то раздражало (не может ничего другого придумать), — сейчас вдруг обрело для меня какое-то определенное звучание. Эти слоги — "При", "ет", "фро", "та" — показались мне какими-то отголосками артиллерийской канонады, далекими звуками передовой, которые доносятся до меня вместе с письмами Ведерникова…)
"Я, конечно, не получил от Вас еще письма, да это и понятно из-за перемены моего адреса. Но я чувствую, как оно идет где-то и приближается ко мне.
На нашем участке пока тихо. Стоят чудесные дни. Вообще летом война легче. Не мерзнешь, ходишь в сухой одежде, снабжение регулярное. Мне очень досталось весной сорок второго на Северо-Западном фронте. Тогда залило водой все окопы, и мы ходили все промокшие до нитки. А здесь пока хорошо. Оборудовали по всем правилам свои позиции и не особенно тревожимся при артобстрелах и бомбежках. Да они и не очень часты. Главное начнется, наверно, не у нас.
Нина, Вы, конечно, тоже задумывались о смысле жизни. Я начал думать об этом лет с шестнадцати и перечел уйму разных философов. Но потом этот вопрос как-то отошел от меня, и я думал — насовсем, но вот сейчас почему-то опять стал задумываться. Может, потому, что наша жизнь здесь очень однообразна и есть время для размышлений.
Я прожил двадцать лет. И, конечно, ничего не успел в жизни сделать, да и не мог — учился, мечтал об университете, читал… Но вот, чего скрывать, моя жизнь может оборваться с любую минуту, в эти самые двадцать лет… Ну, и для чего же она была, эта моя жизнь? Неужели нет смысла в моем появлении на свет, в прожитых годах и в моей смерти, если она произойдет? Не может же этого быть! Он должен быть, этот смысл! Но в чем? А если все случайно? И наша вселенная, и наша земля, и люди на ней, и я? Что тогда? Значит, все, все бессмысленно? И когда подумаешь так, то становится как-то страшно на душе и очень пусто, словно вынули из нее что-то…
Ладно, хватит об этом, а то вдруг Вам будут скучны мои рассуждения. Знаете, я перестал отдавать свои наркомовские сто граммов ребятам, а выпиваю их сам. После них как-то спадает напряжение, лучше мечтается и, что главное, ярче вспоминаетесь Вы…
Кончаю писать, что-то зашевелились фрицы — стреляют из пулемета на левом фланге. Напишите, что Вы думаете о смысле жизни?…"
О смысле жизни? Вот вопросик! Господи, наверное, я все же дурочка, потому что, честно говоря, никогда об этом не задумывалась. Все-таки мужские головы устроены, видно, по-другому… Что же касается меня, то мне просто всегда было радостно и хорошо жить, несмотря на всякие мелкие неприятности, а раз радостно — чего же задумываться о каком-то смысле?
Мы и родились, наверное, для того, чтобы радоваться жизни. Радоваться, что светит солнце, что над нами голубое небо, что кругом хорошие, добрые люди… И наконец — есть любовь! Она-то дана для радости и счастья! Не знаю, что я ему отвечу? Что-нибудь накручу. Должно же у меня хватить на это мозгов.
Еще в школе я прочла Вересаева "Живую жизнь" — это о Толстом и Достоевском. Так вот, мне всегда был чужд и далек Достоевский с его психопатами, и я люблю Наташу Ростову! А Наташа, по-моему, не очень-то задумывалась о смысле жизни, а просто жила… Наверно, так и надо. Или я не доросла еще до таких вопросов? Но ведь Ведерникову надо ответить, и что-то умное. Ладно, буду дежурить ночью, что-нибудь да соображу на досуге.