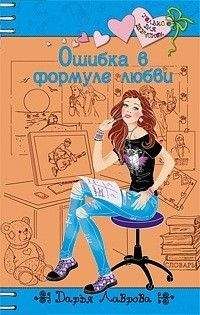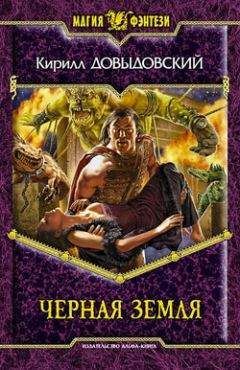Пока мы находились не на передовой, мне удалось сфотографироваться. Получилось ничего. Во всяком случае, на этой фотографии я не такой младенец, как на прежней. Но если Вы до сих пор хотите воображать меня по-своему, то посылать не буду, а то вдруг разочаруетесь.
Наверное, скоро мне повесят еще "звездочку". Глядишь, к концу войны, если останешься жив, дослужишься до майора. Но в армии остаться насовсем я не хочу. К истории я не охладел. Видимо, она мое призвание. Особо интересует меня эпоха Петра. А потом — революция. Это, пожалуй, самые переломные эпохи в истории России, самые значительные. И та и другая перевернули не только весь уклад жизни народа, но и его душу. Проникнуть во все это чрезвычайно интересно. Но, простите, быть может, это Вам скучно. Поэтому прекращаю. Напоследок шлю Вам те же слова, что и всегда…"
Я задумалась. Очень глубоко задумалась, как, наверное, никогда в жизни. Передо мной в письмах вставал человек. Не просто влюбленный паренек, а человек. Со своими мыслями, мечтами, со своей судьбой. И я как-то впервые задумалась о загадке личности. И вдруг поняла, что каждый человек — это особый мир. Мир очень сложный, своеобразный и, главное, неповторимый… Никогда в мире не будет такой, как я, или такого же, как Ведерников. Мы все уникальны и неповторимы. Эта в общем-то совсем не новая для человечества мысль для меня тогда стала откровением, поразила до невозможности.
И после этого откровения письма Ведерникова стали для меня не просто приятным событием, возбуждающим какие-то светлые, теплые чувства, а стали, кроме всего прочего, страшно интересны в другом, в главном, — в постижении внутреннего мира этого человека, который постепенно раскрывался мне все больше и больше с каждым полученным письмом.
Я так и написала ему: "Вы стали интересны мне, Юра, как человек, и я с нетерпением жду ваших писем, чтоб узнать о вас еще что-то новое…" А в конце даже добавила, что, наверное, буду ждать его, ждать по-настоящему.
А жизнь в госпитале шла своим чередом… Случались события и комические, и драматические, и трагические. Трагическими были всегда смерти раненых. И хотя почти каждый день кто-то умирал, привыкнуть к этому было невозможно. Особенно когда умирали твои больные, за которыми ты ухаживала, у которых просиживала ночи, к которым привыкла… И я всегда ревела. Умирали молодые, сильные, красивые, которым жить бы и жить, и примириться с этим было нельзя.
Но наряду с этим были случаи и смешные. Самые чудеса творились с ранеными, у которых были повреждены периферические нервы. Например, ранен человек в руку, а случайно дотронешься до его пятки, и он вопит как резаный — страшная боль. Ему и самому потом смешно: как это так, ранен в одно место, а болит другое. Ну, и мы не удерживались — прыскали. И смех и грех. Или — везу я в лифте одного ранбольного. Только я закрыла дверь, а он как закричит:
— Ниночка! Укрой меня чем-нибудь! Не могу! Страшно! — Ну, я, конечно, умирая от смеха, покрываю его лицо полой своего халата (чем же еще?), а он весь дрожит, как осиновый лист. Так и ехали. Вышли, а он и сам засмеялся, не понимая, отчего ему вдруг стало страшно.
Некоторые высоты боялись, по лестнице ходили, прижимаясь к стенке, и не дай бог, если к перилам подвести, — тоже вопль ужаса и боль во всех местах.
А был один, который на дню несколько раз просил обливать его водой, что мы все и делали с удовольствием и смехом. Наберем в рот воды и обрызгаем его, как белье перед глаженьем.
Конечно, сейчас думаешь, ну чего же смешного в этом было? Ведь больно людям. Но тогда нам, смешливым девчонкам, достаточно палец было показать, чтоб мы начинали помирать со смеху.
Случались и драмы. Любовные, конечно. Лежал у нас один капитан. Молодой, лет двадцати пяти, красивый. И была у нас очень серьезная, тихая сестра Оля. Тоже очень хорошенькая, умненькая, из интеллигентной семьи. Она была не из тех, кто мог крутить роман с кем угодно. Очень положительная была девушка. Но она этого капитана полюбила по-настоящему. Когда он почти выздоровел, она водила его к себе домой показывать родителям, и мы все думали, что вот-вот они поженятся.
Но вот в один распрекрасный момент появляется у нас в госпитале в проходной девица в военной форме и спрашивает этого капитана. И как нарочно, оказалась тут и Оля. Ну, девушку, конечно, спрашивают, кто она? Она отвечает жена и документ показывает.
Что тут с Олей было! Уж не знаю, произошло ли у них объяснение, но капитан через день выписался и уехал, а Оля… бедная Оля оказалась на третьем месяце…
Мы все ей, разумеется, очень сочувствовали, только вальяжная Клавка изрекла по этому поводу:
— Вы все дуры. Сколько раз я вам говорила, не верьте мужикам. Вот я им не верю ни на грош, и такого со мной никогда не случится.
И верно, Клавка-то бедрами крутила изо всех сил, но никому ничего лишнего не позволяла и не позволит — это точно!
А наша старшая на очередной пятиминутке не преминула съязвить:
— Если такое случилось с такой серьезной девушкой, как Оля, — сказала она, — то что же можно ожидать от других… — Она сделала многозначительную паузу, уставилась на меня, а потом добавила: — Я, конечно, не буду указывать пальцем…
Моя голова заработала, как бормашина, в ней что-то загудело, завертелось, и я выдала мгновенно:
— Зато, к счастью, некоторым из нас это абсолютно не грозит. Я тоже не буду указывать пальцем.
Девчата засмеялись, а я победоносно вышла, вильнув бедрами на Клавкин манер, благо они тоже у меня есть, подчеркнув тем самым отсутствие оных у нашей Аллочки.
На танцы я продолжала ходить, но они что-то потеряли для меня то значение, какое было раньше. Стала как-то равнодушней к ним, а танцевала, меняя партнеров, никому не выказывая предпочтение. Несколько раз танцевала и с Артуром. Ему скоро выписываться.
— Ну как ваш роман… в письмах? — спросил он.
— Продолжается, — кивнула я. — Очень интересно.
— Юра умный, хороший парень, — подтвердил еще раз Артур.
— Вы тоже, — не удержалась я, памятуя о его благородстве.
Он прижал меня на какое-то мгновение, но сразу же отпустил.
— Я завтра, наверно, уже уезжаю. И мне некого будет вспоминать, кроме вас. Проводите меня?
— Конечно, — не задумываясь, согласилась я.
— Тогда у меня просьба.
— Какая?
— Вы… вы разрешите мне поцеловать вас на прощание?
Я немного смутилась.
— Разве у вас здесь никого нет?
— Никого.
— У вас в отделении очень милые девушки.
— Мне никто не нравился.
— Ой ли? Что-то не верится. У вас там Анечка такая хорошенькая. Я бы на вашем месте обязательно влюбилась.
— У меня есть девушка… дома… в Эстонии. Правда, я не знаю даже, жива она или нет… — сказал грустно Артур.
— Мне не жалко, конечно, — заколебалась я, — но… Ведерников и ваша девушка… Разве это не будет изменой?
— Какая измена, Ниночка. Просто товарищеский поцелуй на прощание. Ведь я скоро буду на фронте.
— Ладно, я подумаю, — решила и досказала: — Но я должна буду написать об этом Юре.
— Конечно, Ниночка, — улыбнулся Артур.
Мне, конечно, он немного нравился, этот Артур. Особенно его улыбка. Ладно, утро вечера мудренее, подумала я, до завтра еще уйма времени. Но этот вечер я протанцевала только с Артуром. Чего уж, раз человек уезжает на фронт…
На другой день Артур в отглаженной гимнастерке с ослепительно белым подворотничком зашел ко мне в отделение.
— У вас есть время меня проводить? Вы не раздумали?
— Нет, нет. Пойдемте. — И мы стали спускаться по лестнице.
— Вы надумали? — спросил он, грустно улыбаясь.
— Что?
— Уже забыли?
— Ах да. Вспомнила! Ну, хорошо, раз вы уезжаете. Была не была.
У самых дверей, когда мы миновали швейцара, Артур приобнял меня и поцеловал далеко не товарищеским и далеко не братским поцелуем. У меня захватило дух, сердце заколотилось, и я в смятении рванулась из его рук. Он не стал меня удерживать, а стоял передо мной тяжело дыша и почему-то очень побледневший.
— Спасибо, Ниночка. Я буду долго помнить это. Прощайте. — Он круто повернулся и вышел… Дверь, скрипя пружиной, медленно закрылась за ним.
Я еще долго стояла немного потрясенная и взволнованная. Целовалась я, разумеется, не в первый раз, но ничего у меня те поцелуи не вызывали. Только смех разбирал, потому что ребята целоваться не умели, только мусолили, и я всегда после этого бегала умываться. Но сейчас что-то дрогнуло во мне. Вообще-то это было ни к чему. Мало ли что он на фронт уезжает. У нас каждый день кто-нибудь да уезжает, что ж, целоваться с каждым?
Не совсем довольная собой, что разрешила Артуру себя поцеловать, и в то же время находясь под впечатлением этого поцелуя, я томно поднималась по лестнице и… разумеется, натолкнулась на Аллочку. Она приостановилась, обвела меня скептическим взглядом. Я прямо-таки физически ощущала на своих губах отпечаток Артурова поцелуя, который она непременно углядит! И углядела! Потому что развела руками, покачала головой и процедила: