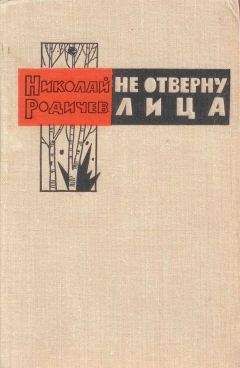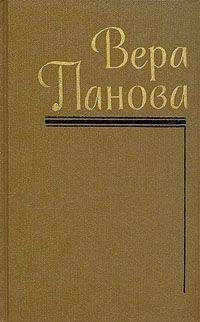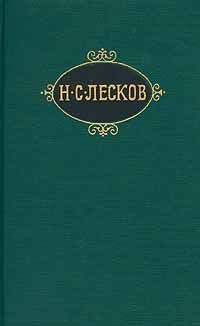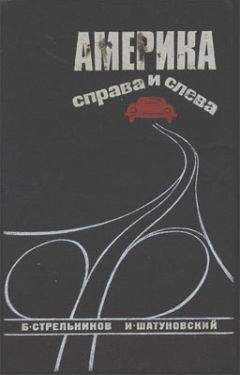Я медленно сошел по ступенькам вниз, так же не спеша двинулся вперед, ощупывая глазом каждую колдобину на обледенелой тропе. Может, потому, что идти пришлось не подымая головы, к дому бабки я приблизился незряче. Когда вплотную оказался перед военными, почти в упор встретился... с глазами Степки... Передо мною снова засветились два озорных ребячьих костерка.
Меня как-то качнуло сбоку набок. Я вдруг почувствовал, что проваливаюсь в бездну. Нас все же разделяло какое-то пространство, потому что мне захотелось бежать к этим костеркам. Я ринулся вперед, закричал. То кричало во мне все мое существо:
— Степка! Степка пришел!
Я уже не чувствовал, как подвернулся протез, как я полз по снегу к Степке, хватал его за полу шинели, за руки. Девушка в полушубке помогла мне подняться. Она же затем настойчиво оттерла меня плечом от Степки, боясь, что я задушу его.
— Осторожно, товарищ! — напомнила она. — Степану Федосеевичу не можно волноваться... Будь ласка, без резких движений.
Нетрудно было догадаться, что это медсестра. Да и сам Степка бледный, постаревший, весь пропах йодоформом.
Чересчур уж серьезной показалась для первого раза медсестра эта!
— К-командуешь здесь? — заикаясь и вообще каким-то чужим, завезенным издалека голосом спросил Степка. — А к-как же отец?
Я промолчал.
А по деревне шли и шли люди. Казалось, все живое вопило: «Степка Чураев живой! Степка вернулся!»
Впереди нестройной толпы шла, почти не опираясь на клюку, гордая и молчаливая бабка Пелагея.
Медицинской сестре, сопровождавшей Степку из госпиталя, пришлось бы худо, не догадайся она упрятать его в избу.
Но и лежащему на материнской кровати Степке не предвиделось покоя. Каждый хотел хоть пальцем дотронуться до него, как до святого. Ахали, поздравляли, целовали его и друг друга. Степка весело поглядывал в изумленные лица односельчан, сам удивлялся, отгадывая имена повзрослевших детей.
Не знаю почему, но я вскоре очутился сзади всей этой счастливой публики. В избу входили все новые и новые люди, проталкиваясь вперед. Ребята даже на печку залезли, чтобы лучше видеть.
Внезапно я обнаружил, что на том месте у кровати, где сидела медсестра, домовито расположилась сияющая бабка Пелагея. Приглядевшись получше, я убедился, что медсестры вообще нет в избе.
Решил выйти покурить. Я прошел через сени к двери, распахнутой во двор. Наверное, долго стоял там, опершись о притолоку, глотая табачный дым, бессмысленным взглядом созерцая кур, разбредшихся по двору. До моего сознания с беспощадной ясностью вдруг стало доходить то, что можно было угадать по бескровному лицу Степана и по горестно-озабоченным глазам медсестры. Странные иногда запоминаются подробности: девушка ни разу не улыбнулась, видя счастливые лица односельчан Степана. Знает ли она, какую радость доставила Пелагее Сидоровне да и всем нам?
Заглянув внутрь сарая, я остолбенел: медсестра лежала на соломе, уткнувшись лицом в согнутую руку. Плечи ее вздрагивали.
Почувствовав шаги, она приподнялась на локте, заслоняя от меня ладонью свободной руки зареванное лицо.
— Ради бога, ни о чем не спрашивайте меня, — умоляющим тоном проговорила она.
Предупреждение это было лишним. Едва ли я смог бы в эту минуту спрашивать ее о чем-либо. Я повернулся, чтобы уйти, но девушка попросила окрепшим голосом:
— Вытрите себе лицо, мужчина... И помогите мне встать.
Я выполнил ее желание.
— Как вас зовут? — зачем-то спросил я, не выпуская ее руки.
— Одарка, — улыбнувшись лишь уголками губ, ответила она и посмотрела на меня большущими, со снежными искорками в глубине, карими глазами.
О, сколько тоски могут вмещать иногда женские глаза!
— Когда вы уезжаете?
— Завтра утром.
Одарка опять взглянула на меня, и снова мне стало холодно от ее взгляда.
— Пришлю за вами сельсоветскую подводу...
Она не ответила, машинально сбрасывая с рукава приставшие соломинки. А я все еще не отпускал другую ее руку, то ли пытаясь передать Одарке свою душевную стойкость, то ли ища поддержки у нее самой.
— Спасибо вам, Одарка... Спасибо душевное за то, что вы... за то, что вы довезли Степана сюда живым. Он очень нужен нам здесь. Какой есть, какой бы он ни был...
Вечером Одарка рассказала мне подробности Степкиного ранения.
— Один он остался у переправы... Все ждал, когда наши разведчики с того берега речки приплывут. А тут вместо своих немцы в лодке... Гранатой он оглушил их, да не всех. Трое на одного кинулись... Подобрали его в камышах бойцы из другой части. В госпиталь привезли чуть живого. Врачу не удалось вытащить из тела всех осколков. Особенно опасен был один — у самого сердца. Он до сих пор там и перемещается...
Долго, очень долго боролись мы за его жизнь. А больше нас он сам боролся. Из переписки со штабом его части мы узнали, что похоронная отослана. Я сразу приготовила письмо Пелагее Сидоровне и даже дала почитать Степану, когда он пришел в сознание. Но врач спрятал это письмо в столе: стоит ли дважды травмировать сердце матери?..
Наутро Одарка ушла пешком на станцию, отослав назад подводу и даже не попрощавшись со мною.
...С той поры на Суземье что ни мальчик, то Степан.
Пелагея Сидоровна жива доныне. Ежедневно, покончив с нехитрыми домашними делами, она обходит те тропки, по которым бегал ее рыжеватый босоногий Степка. И хотя она, выйдя из дому, на несколько минут замирает у невысокого холмика, всегда убранного живыми цветами, тревожный взгляд ее испытующе останавливается на встречных людях. Она как бы спрашивает с надеждой: «Ты — не Степка?»
Я не знаю человека в нашем краю, который решился бы сказать ей, что он — не Степка.
Случалось это в предзимье. Застуденит с тонким присвистом сиверко, прикоржавят осклизлые проселочные тропы, задернет морозец мохнатым ледком копытные следы, а иногда и первым снежком тряхнет сверху — в эту пору появлялся в нашей деревне гость. Был он уже немолод, сутуловат, ходил вприпрыжку, с подволоком левой ноги, перебитой на японской войне. От прочих пожилых людей в округе отличался тем, что сам себе укорачивал бороду и носил очки.
Все его звали Алимушкой и не помнили отчества. Никто не знал, сколько ему лет, откуда родом, где пропадает до холодов. Хорошо известно было лишь то, что Алимушка немало годков оттрубил в царской армии. В японскую войну под Мукденом был тяжело ранен и получил Георгиевский крест. После излечения в госпитале уже не мог возвратиться в строй и остался в родном полку портным.
Старик любил, когда его называли солдатом или просто служивым.
В деревню гость предпочитал захаживать без провожатых, от случайного попутчика освобождался хитростью: притворится усталым или свернет в ярыжек по нужде.
Особая радость звучала в голосе отставного воина, когда он, опершись на клюку и сбросив под ноги холщовую котомку с инструментами, певуче возвещал от крайней избы о своем приходе:
— Полушубки!.. Эй, кому шить полушубки!..
Занятые нескончаемыми докучливыми заботами, сельчане за летнюю страду успевали забывать про швеца. Но будто по команде, хлопали калитки, со скрипом распахивались двери. Одетые наспех, а то и босиком, чтобы не отстать от сверстников, мальчишки высыпали на дорогу, и крикливый их табунок окружал пришельца.
— К нам, дядя Алимушка! Нет, к нам... к нам!
Швец неторопливо развязывал котомку и одаривал детей тульскими жамками, которые, как и все его вещи, пахли овчиной. Потом он в окружении ребятни обходил изогнувшуюся по взгорью кривую улицу, останавливаясь у каждой избы. Кому степенным поклоном, а кому и соленой прибауткой он отвечал на приветствия. Успевшие принарядиться — мужчины в новых рубахах, женщины в цветастых полушалках — на разные лады шумели у распахнутых дверей:
— Не обойди мово двора, куманек!
— Заждались тебя, Алимушка!..
Самая расторопная из женщин выносила швецу новый березовый веник. Путник, крякнув от удовольствия, с превеликим тщанием обметал свои лапотки.
— Отлетай, пыль-дорога, у этого порога, а тебе, молодушка, что ни гость, то подмога...
Старый солдат переступал порог и с этой минуты считал свой марш оконченным. У догадливой хозяйки он мог выпить чарку и отобедать, но это не означало, что изба для продолжительного постоя найдена.
Привечать Алимушку считалось большой честью в любом доме. Ради него резали поросенка или барана, гостю стелили лучшую постель. Домочадцы наряжались по этому случаю в праздничные одежды, а сама хозяйка развешивала по стенам вышивку: Гость не брезговал принять в дар пару чистого белья, не отговаривал, если добрые люди топили для него баньку.
За право приютить у себя швеца шли раздоры. Но Алимушка предпочитал выбирать себе место для работы сам. Чаще всего это был дом моего деда Данилы — человека чудаковатого и беспечного, любившего прихвастнуть, крепко знавшего свое плотницкое ремесло.