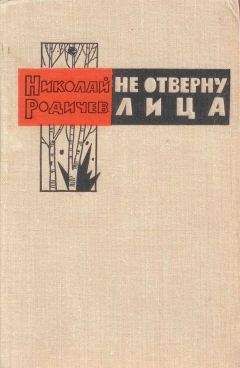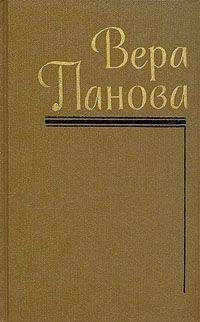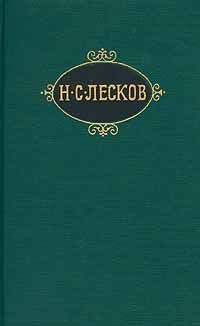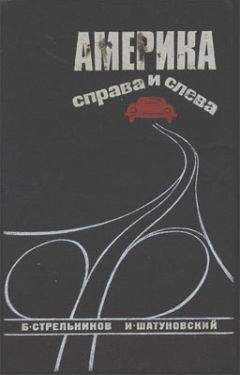Сразу после молотьбы дед Данила выдалбливал в земляном полу избы три глубокие ямы, закреплял в них рядок толстых кругляков. Затем настилал на этих кругляках подобие нар или помоста. Для работы Алимушке хватило бы и обыкновенного стола, но дед знал: от любопытных не будет отбоя.
Поглядеть на швеца, послушать бывальщину о житье в других селениях, его рассказы о войне сходились и стар и млад. Поэтому настил из свежих, гладко выструганных досок тянулся через всю избу — от иконного угла до порога. Не было случая, чтобы древний Данила употребил для этого сооружения прошлогодние доски или не обстругал их добела. Нередко гость, чтобы не стеснять хозяев дополнительными заботами о ночлеге, использовал этот помост как исполинскую постель, застлав его овчинами.
Швец приступал к делу не торопясь. Он выпивал рюмочку, сытно обедал, любил даже полежать немного после еды. Не обращая внимания на публику, которая к вечеру постепенно заполняла богатырское застолье, Алимушка размашисто крестил лоб, со строгим выражением лица сотворял шутливую молитву:
Поклон тебе, боже,
За добрые кожи,
Божьему сыну
За мягкую овчину,
Хозяину за привет,
Хозяюшке за обед.
Минуту и две он потом прохаживался по избе, не отвечая на добродушные реплики местных остряков. Когда он подходил к столу, лицо становилось одухотворенным, серые выцветшие глаза вспыхивали задорным блеском, как у артиста, готовящегося к импровизации.
Наконец наступала долгожданная минута. Алимушка засучивал выше локтя рукава, повязывал через лоб тесемкой волосы, чтобы не спадали на глаза, и небрежно швырял на стол овчину. Резкими, точными, размашистыми движениями он рассекал ее на несколько кусков по известным только одному ему мысленно начертанным линиям. И пускал в ход иглу.
Обычно неторопливый, Алимушка за рабочим столом становился совсем другим. Толстая сверкающая в неярком свете керосиновой лампы игла описывала в воздухе замысловатые круги, исчезала в густых складках кожи, появлялась вновь. Руки швеца танцевали, кипели над шитвом. Овчина ворошилась, как живая, дышала под этими руками.
На глазах у изумленных, притихших людей разбросанные по столу куски и лоскутья сращивались, соединялись навсегда и в таком порядке, что овчина становилась красивой, ладно сшитой, ласкающей глаз обновкой. Не дай бог, если кто-нибудь в это время кинется помогать Алимушке и в чем-то нарушит строгий порядок на столе. Разве хозяйка догадается чистым рушником отереть повлажневший лоб мастера, да такой заботе своя пора.
Вот, откусив нитку зубами, простукав деревянным молотком швы, Алимушка вскидывал свое детище на руке и щедрым взмахом кидал полушубок по длинному столу. Десятки рук устремлялись навстречу обновке, каждый норовил подержать ее, прежде чем она попадала в цепкие руки заказчика.
Брат моего отца, рослый парень Моисей, не очень сдержанный на слова, как-то сказал, обращаясь к соседу:
— Подумаешь, полушубок! Вот надену — и разойдется по швам.
Эти слова услыхал Алимушка. Закончив работу, он подошел к Моисею:
— На, разорви, щенок!
Моисей, покраснев от обиды, стал напяливать только что снятую с иголки одежду. Дед Данила пытался урезонить Алимушку:
— Брось, служивый, с дураком тягаться!
— Рви, если сможешь! — упорствовал швец. — Я плачу за овчину!
Моисей с глуповатой ухмылкой застегнул на все клепушки нарядную обновку и шумно потянул в себя воздух, расправляя плечи. Однажды он согнул на своей груди стальной ломик, но тут, как ни приседал, перекашивая плечи, добиться своего не мог.
— Рвите вдвоем! — подзадоривал Алимушка.
Моисей сбросил полушубок, взялся за рукав. Его ровесник Демьян Сорокопуд ухватился за полу. Парни забегали по избе, как бы отнимая полушубок друг у друга, изо всех сил тянули каждый к себе, дергали рывками. Наконец Моисей полетел в угол, к лохани, зажимая в руке кусок полушубка.
Все ахнули: рукав лопнул по целику!
Торжествующий Алимушка тут же притачал новый рукав и, подбросив свое изделие к потолку, крикнул:
— А ну, кто поймает?
Дождался своей очереди заказчик Савелий Князьков. Он поднес к столу и расстелил перед мастером большую овчину, которую все время держал под мышкой, скатав ее в трубку. Швец поправил тесемку на лбу и взялся было за ножницы. Но вдруг отложил инструмент в сторону:
— Надсмехаться над своим однополчанином вздумал, Савелий? Ни во что ставишь меня перед добрыми людьми! Овчина-то твоя ползет, как тесто. А одежда готовится не на один год. Не только для сугреву — ради красоты человеку я служу! Не удержит твоя овчина моих ниток — как струны они у меня!
Пристыженный Савелий тут же удалился, позабыв овчину, сброшенную на пол разгневанным мастером.
— Гляди-кось, бабка Алена, швец из твоей овчины черта стачал! — выкрикивал какой-нибудь озорник, чтобы разрядить неловкую обстановку. Из-под вороха порезанной кожи высовывались застежки, похожие на заячьи ушки.
— Цыцте, окаянные! — шумела с печки бабушка. — В урочный час нечистого не гневите... Алимушка — святой человек, безродный кругом... Всейный он наш, богом для угождения людям послан...
Швец относился к такому заступничеству безучастно.
— Бога не видывал, про черта только слыхивал, а вот домовой мне сродни доводится...
— Ой ли?! — испуганно воскликнула, услыхав такое, Настя Бородина, сидевшая поблизости от Алимушки.
— А то как же думаешь: вышел за деревню — и к облакам короткими перебежками? Я в овчинах у вас летом живу на потолке...
Швец, округлив глаза, испытующе уставился на Настю поверх очков.
— Хочешь, крестница, я прилюдно все твои секреты объявлю: сколько ты перемен белья своему суженому приспела, какой узор на свадебной сорочке выбила?..
— А вот скажи! — осмелела девушка.
— Так вот: четыре рубашки, да портов столько же, да онуч тринадцать аршин, да сукна на зипун...
Настя ликующе возразила:
— Ой, обмишулился, папаня крестный! Не в лад сказал!
— Одну-то ты успела подарить тайком от матери и подружек, — не сдавался Алимушка. — Хочешь скажу, как жениха звать?
Девушка, будто поперхнувшись, смолкла. Застолье взорвалось смехом.
— Крой под чистую, Алимушка! До конца говори... И про Евменью рассказывай и про Катьку.
Рябая дебелая Катька, прозванная в деревне Воеводой, взмолилась сразу:
— Дядечка, милый, обо мне ни слова. Я верю, что ты домовой...
Раззадоренные мужчины кричали:
— И ведьмов наших небось знаешь наперечет?
— С ведьмами я в сговоре, — важно ответствовал швец.
На этот раз вступила в разговор бабка Алена, недовольная отношением самого Алимушки к ее заступничеству.
— Не беда бы в нашей деревне — так он в Сусловке, угодничек божий, ведьмаху завел: к солдатке Домахе пристроился, чаевничать к ней ходит...
Эта разоблачительная фраза, произнесенная хворой бабкой, уже давно не слазившей с печи, подняла на ноги всех в избе. У швеца даже очки свалились с носа от неистового хохота за длинным столом. Он с хрустом перекусил зубами суровую нитку и часто заморгал подслеповатыми глазами. Всем стал заметен испуг, хотя солдатская находчивость тут же пришла ему на помощь.
— Напраслину гнешь, кума, — поправляя очки, заметил он. — Домаха — баба честная, рукодельем ее любуюсь.
— Знаю я Домахино рукоделье! — подливала масла в огонь внезапно поздоровевшая бабка.
Мужики мудрствовали:
— Вот тебе и домовой... А Домахин-то Митька за Настей ухлестывает...
Дед Данила, насупившись, протиснулся к осажденному дружку, однако не за тем, чтобы выручить его.
— Ежели на большой привал потянуло, пехота, то у нас и своих солдаток избыточно... Хату тебе всем миром отгрохаем! Петухов я ольховых срукодельничаю поузористей, чем Домаха на холсте...
Алимушка почтительно поклонился деду, сложив руки на груди:
— Каюсь, дорогие! Сдаюсь после жаркого боя... Открыться перед вами желаю...
Когда люди поуспокоились, продолжил:
— Была такая думка у меня... Позиция у соседей ваших приглянулась, окопаться вздумал там.
Дед Данила еще больше помрачнел:
— Это чего же у соседей?
— В коммунию сусловцы всем обчеством собираются, одной семьей жить хотят.
— И овчины в кучу свалят? — выкрикнули от порога.
— Все, как есть! — весело блеснул очками швец.
За столом протяжно присвистнули. Дед Данила поскреб в затылке.
— Не пойму, служба, куда ты свою строчку в разговоре повел? Всем миром ладно получается хороводы водить на лугу, а полюшко, тебе не в обиду будь сказано, не овечья шкурка... За хлеб животы люди кладут, самому царю холку намылили.
Швец пожал плечами. Он, видимо, и сам не вполне представлял себе коммунию. Обдумывая свой ответ, он повертел перед лицом почти готовое изделие и сказал искренне, душевно: