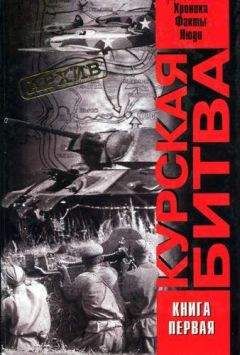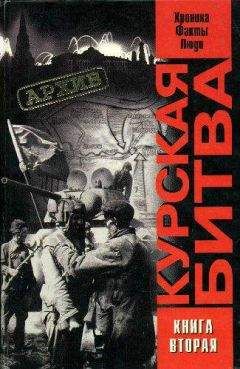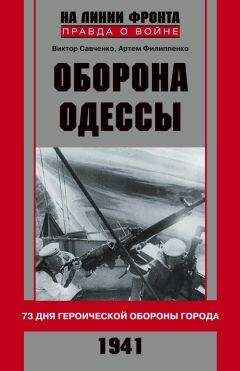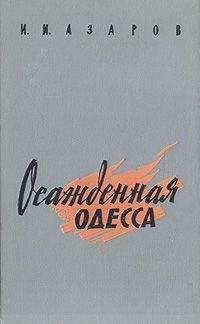— Ну, да. Больша-ая комната, контора там была какая-то. Ну вот, всех туда и поселили, четыре семьи, нет — пять. Там столб стоит посередине. От него веревки натянули, одеяла, простыни повесили. Она, эта соседка, за одеялом живет. Теперь понял?
— По-нял, — тянет Миша.
Мы уже добрались до проходной. Тут светло, горит яркая лампочка. Усатый вахтер в синей форме ощупывает нас с ног до головы, заглядывает в торбы, подозрительно всматривается в лица.
Чего это он? — спрашиваю я, когда он, наконец, отпускает нас и мы выходим на улицу.
— Шелк ищет.
— Шелк?
— Ага. Он, знаешь, дорогой какой. И маленький места занимает. Три метра, если туга свернешь — во-от такой маленький будит. На базар несешь, триста рублей получаешь. Сколька хлеба можешь купить? Шесть кило купить можешь…
— И выносят?
— А ты думал! Особенно женщин. Так запрячит — в жизни ны найдешь.
— Да-а… А если поймают?
— Пять лет.
Пропади он трижды. На кой он сдался, не понимаю. Кто его покупает сейчас, кому он нужен?
— Хо-хо, кому нужен! Раньше один баран режет — шесть метра шелк покупает. Сейчас один баран режет — двадцать пять — тридцать метр шелк покупает. Война кончит, шелк продает — богач будыт…
Мы входим в столовую. Она почти напротив комбината — только дорогу перейти. Уже поздно, народу мало, в огромном зале полутьма, тускло светятся раздаточные окошки в дальней стене, да в разных углах сидят люди, медленно, сдерживая голодное нетерпение, хлебают столовскую баланду.
Мы заглядываем в окошки. В одно, другое, третье. Там тоже почти пусто. Среди огромных кастрюль и баков орудует здоровенный откормленный лоб. Он запускает в котел черпак на длиннющей палке и вычерпывает остатки, переливает их в маленький бачок, несет к окошку.
— Видал, — шепчет Миша, — самый гуща, сейчас наливат будит, подавай талон.
— Погоди, может, я знакомую найду.
Но соседки нигде не видно. У крайнего окошка стоит коротконогая крепкая девица. Грязно-белый халат туго обтягивает выпирающие бедра. Проходя мимо нее, парень с бачком как бы нечаянно проводит горячим луженым боком бачка по крутым ягодицам, и она, развернувшись, с размаху лупит его половником по заду. Гулкий гогот разносится по кухне, и парень, подпрыгивая, пробегает дальше, к другому окну.
— Ну, кто там есть, подходи сюда — остатки сладки!
— Подавай, — горячо шепчет Миша, — он сейчас хорошо нальет.
— Да пошел он… Тетю Марусю позовите, — говорю я парню.
— Нет ее. Никого сейчас нет, скоро закрываем. А что тебе?
— Ничего.
Мне хочется съездить его по лоснящейся, расплывшейся роже, но вместо этого я протягиваю ему талоны и наши две миски., -…
— Налей, вот…
Он наливает нам. Наливает по два половника в каждую миску. По два вместо одного. Все-таки имя моей соседки сыграло свою роль. Ну еще бы — ведь она, по слухам, заведующая залом. Я, правда, не знаю точно, что это значит, но заведующая — это всегда звучит.
Мы идем к столу, бережно несем свои миски.
— Знаешь, — говорю я Мише. — Есть чего-то не хочется. Понесу-ка я эту порцию бабушке…
— Как ты понести будешь? Как будешь нести?
— А я в мешочек — на дно поставлю и осторожно пойду.
— Ну что ты говоришь! Как можно суп в мешочек носить? Три километр дорога, грязь, дождь, а ты суп мешком понесешь?
— Ну, понимаешь, Миша, я тут хоть что-то ел, а она ведь ничего не ела, меня ждет.
— Чудак-человек, сплошной вода три километр в мешок носить, — сочувственно ворчит он. Потом взбалтывает ложкой свою порцию, примеривается к чему-то глазами и вдруг оживляется. — Слушай, неси еще миску, чистый миску неси сюда…
— Чего ты хочешь делать?
— Давай, давай, тащи сюда!
Я приношу еще одну алюминиевую миску, и он начинает какие-то странные манипуляции: из одной миски сливает в другую, из той — в третью. В результате в двух мисках осталась мутноватая жидкость, а в одной собралась вся густота — ее немного набралось из четырех порций.
— Вот. Это неси, — говорит Миша. — Эту как-нибудь донесёшь. А это мы сейчас сами…
И он принимается пить большими глотками прямо из миски, чтобы показать, что дело решено бесповоротно.
Я тоже отпиваю из своей миски несколько глотков. Жидкость горячая, она пахнет чем-то питательным, на поверхности плавают бледно-коричневые пятна — свидетельство того, что здесь присутствовало когда-то масло. И все это вместе создает ощущение еды, хотя никакой еды здесь, конечно, нет, и только живот раздувается неимоверно, когда мы допиваем до конца всю жидкость.
— Уф… наелся, — отдувается Миша и отирает пот со лба. Он действительно вспотел, лицо стало красным.
— Чем же ты наелся?
— Как чем? Как чем? В обед две порции — раз, вечером Медвед дал — два, сейчас две порции — три… Гляди, какой пузо!..
— Пузо! — усмехаюсь я. — Ведро воды выпей, еще больше будет пузо.
— А что! Медвед говорит: ведро воды пьешь — сто грамм масла берешь.
— Медведь, он и есть Медведь. Он тебе такого наговорит!.. Сам небось домой воду не таскает, одну гущу носит!
— Не домой он носит.
— А куда же?
— Есть одно место. Ладно, пошли.
Выходим на улицу. Мокро, темно, грязь под ногами. Мне еще идти три километра. Нас там поселили, в самом городке, а комбинат стоит в стороне — между нашим городком и Карасаем. Мише гораздо ближе. Ему немного пройти по нашей дороге, а потом влево, там, возле комбинатских бараков, — их дом. Я его видел, когда днем приходил сюда оформляться, такой справный, под шиферной крышей. Там еще рядом такая изогнутая, покорёженная чинара — она запомнилась мне.
Мы пристроили тарелку с затирухой на дно моего мешка и уже двинулись в путь. И тут услышали голос московского диктора.
— Постой. Давай послушаем. — «… положение… на Западном фронте ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, самолетов, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону.
Наши войска оказывают врагу героическое сопротивление, но вынуждены были на этом участке отступить…»
Дальше мы не слушали. Идем с Мишей в темноту, и грязь смачно чавкает у нас под ногами. Мы долго молча месим ее, потом Миша вдруг говорит:
— А что, правда это — Можайск, Москва совсем близка?
— Правда.
Он взволнованно шмыгает носом.
— А что, скажи, так может быть, чтоб Москва немее вошел?
— Не знаю, Миша. Думаю, нет… Не может быть.
— А ведь совсем близка, совсем близка, я вчера карту смотрел, семдесят пять, пятьдесят километр остался… — Это ж все равно, как от нас до Карасай, еще ближе, а?
— Наверно, — вздыхаю я. — Может, и ближе.
Он некоторое время молчит и вдруг говорит то, о чем я все время думаю.
— Послушай, — говорит он, и голос его срывается, становится каким-то чужим, неузнаваемым, — если так плохо, немее совсем близко Москва подошел — зачем этот шелк тут крутим, стена долбаем? Кому нужен такой работа?! Зачем всех не собирает, Москва не отправляет?! Почему всем оружие не дает — все — женщины, старики, дети — все против немее?! — Он ждет, что я ему скажу, и, не дождавшись, тут же отвечает себе сам: — Нет, наверна, не так плохо. Наверна, что-то есть такой, что никто не знает, только там, Москва, Сталин знает. Может, второй фронт сегодня-завтра открывает — немее с двух сторон зажимает. Слыхал, Черчилль говорил? А может, другой что-то. Может, такой оружие новый изобрел или секрет какой-то тайный есть… Вот посмотришь, посмотришь, есть что-то, наверна, есть — вот увидишь.
— Дай бог, — говорю я, хотя прекрасно знаю, что бога нет, его выдумали попы и церковники. Знаю, но иногда мне почему-то жаль, что они его выдумали. Был бы он на самом деле — никогда бы не допустил, чтоб фашисты до Москвы дошли. И вообще многое было бы на свете иначе. Не страдали бы хорошие люди, не процветали бы подлецы и эксплуататоры. Не было бы холода, голода и войны… Впрочем, это я, кажется, загнул.
Подлецы и войны все равно были бы, наверно. От них никуда не денешься. Теперь я иду один по темной дороге, соединяющей комбинат с городком. Миша распрощался и ушел в сторону, он уже, наверно, дома. А мне еще идти и идти.:.
По обочинам — размокшая, склизкая глина, того и гляди, шлепнешься в рытвину. Поэтому я иду по проезжей части. Здесь под ногами булыжник, он, правда, тоже затянут слоем жидкой грязи, но знаешь, что никуда не провалишься. Это Миша меня научил. Иди, говорит, пасередке. «Камеи под ногами, но это лучше, это ничего. Зато ровно идешь». И еще он объяснил, что если «плохой люди» встретишь, на широкой дороге всегда разойтись легче. Но пока я еще никого не встречал — ни плохих, ни хороших. Людей вообще не видно. Дневная смена давно ушла, для ночной еще рано. И я иду по безлюдной дороге. Маячат неясные тени по бокам — какие-то домишки, заброшенный сарай, мосластые, с обрубленными ветвями стволы тутовника по краям арыков. Они стоят, будто какие-то обугленные, обгоревшие фигуры, и в каждом из них чудится человек. Идешь, смотришь на него, и кажется, что затаился он, замер, ждет, когда поравняешься с ним. Вот уже ты совсем рядом, вот он здесь, рукой подать, даже потрогаешь — дерево. И все же, пройдя несколько шагов, оглянешься — а не зашевелится ли?!