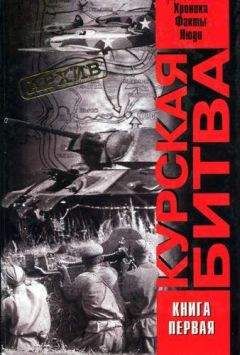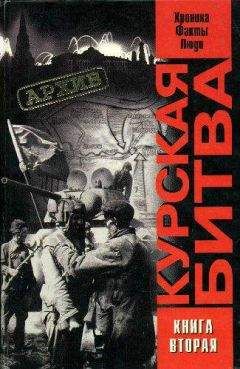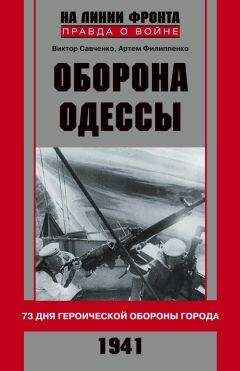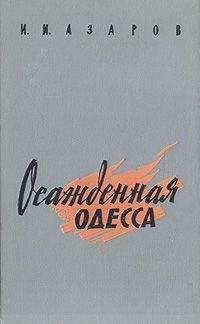Вот так и идешь три километра, ноги совсем промокли, теперь уж все равно, куда ступать — в лужу, в арык ли. Грязь, холод, дождь — зима сорок первого года. Война…
К нашему дому я подбираюсь с большим трудом — вокруг непролазная грязь: шоссе кончилось, пошла сплошная глина, и чем дальше, тем глубже. С усилием вытаскиваю ноги, стараюсь не потерять равновесия. Ну, грохнусь в лужу, вымокну — это черт с ним, но ведь я в целости пронес тарелку с супом, было бы очень обидно, если бы расплескал ее сейчас, перед домом.
Вот и наш двор. Перехожу мостик, перекинутый через арык, и на душе становится легче — кажется, пронес. В окнах темно. Спят уже. Керосину почти ни у кого нет, зажигают коптилку, чтобы только поесть и раздеться. Экономят.
Я соскребаю грязь возле двери плоской железкой. Кто-то нашел и положил ее здесь — это самый популярный предмет, только и слышишь: «Где железка? Куда девали железку?» Отскребаю грязь и толкаю дверь. Она легко поддается, замка у нас нет — и я ощупью пробираюсь от двери сразу направо, в угол, который занимаем мы с бабушкой. Осторожно ставлю свой драгоценный мешок с затирухой и нащупываю в темноте самодельный соломенный матрац на полу и маленькую фигурку бабушки, сжавшуюся на нем.
— Ба, — тормошу я ее, — ба, я тебе суп принес, поешь, а?
— Суп? Это ты, Славик? Пришел! Почему так поздно? Я так волновалась!
— Ну, чего ж волноваться? — говорю я снисходительно. — Не надо. Я ведь теперь на работе.
— Приняли? Ты будешь электромонтером?!
— Да, ба. Обязательно буду.
— Ах, какое счастье! — всплескивает она руками. — Это такая интеллигентная работа. Денежная и совсем не трудная.
— Да, — вздыхаю я. — Совсем. И очень интеллигентная. Поешь суп, он, может, еще теплый.
Она трогает миску ладонью, потом подносит ложку ко рту.
— Нет, Славочка, надо его греть. Оставим на завтра.
Но я настаиваю на своем, подбрасываю пару щепок в чугунку, и мы ставим на нее миску с затирухой. А пока она греется, я распутываю проволоку на ногах, стаскиваю по частям «ботинки», сую ноги под одеяло. Они совсем одеревенели и сморщились от мокроты. Я чувствую это ладонями, растираю их, потом бабушка снимает миску с чугунки и, расхваливая, ест потихоньку мою затируху. Она и меня заставляет взять ложку, и я, чтобы не обижать ее, делаю вид, что ем.
— Надо притянуть дверь, — говорю я, — дует сильно.
Я притягиваю дверь, но как только отпускаю ее, она отстает снова — набрякла, видно, от сырости. Я еще раз с силой притягиваю ее к себе и всовываю в ручку двери топорик, которым мы колем дрова. Теперь, кажется, ничего, — будет держать. И тут я слышу из глубины, из дальнего угла разморённый теплом и дремотой голос:
— Ну, зачем же наглухо! Пускай воздух идет хоть в щелку.
Это тетя Маруся. Она лежит на кровати в самом дальнем углу, отгороженная вместе со своей сестрой и племянником плотными байковыми одеялами, и ей, конечно, воздуха не хватает. А тут на полу, возле самой двери…
— Знаете, тетя Маруся, — грубовато говорю я. — Давайте поменяемся. Вы — на наше место. А мы — на ваше. Держите тогда дверь хоть совсем настежь — хорошо?
Она не отвечает. Видно в моем голосе прозвучало что-то такое, что заставило ее замолчать, а это сделать не так просто. Я и сам удивляюсь себе. Потом вспоминаю — рабочий! И усмехаюсь. И еще глубже втискиваю в ручку двери топорик… Вот так. Пускай знает…
… Вообще с квартирой нам, можно сказать, повезло.
В тот день мы сидели у входа в базар на своих вещах — сюда привезли на арбах новую партию эвакуированных с вновь прибывшего эшелона — и ждали, когда же до нас дойдет очередь.
Время от времени возле нас появлялся невысокий человек в белом шелковом кителе, в галифе, начищенных сапогах и тюбетейке. У него было широкоскулое лицо с прищуренными, глазами и небольшими черными усиками. Он смотрел в какую-то бумажку, потом отсчитывал несколько человек и уводил их куда-то. Возвращался он без них, набирал новую партию. Возле него все время вилась статная женщина с серебряными зубами, с затянутыми в тугой узел волосами. Она была из нашего эшелона, я ее видел несколько раз, она ехала с сестрой и племянником, и на всех станциях сама все доставала и приносила. Она была очень энергичная и пробивная. И вот теперь она все время говорила что-то человеку в белом кителе, улыбалась ему, забегала то вперед, то назад, а он молча слушал ее и время от времени медленно кивал головой. Женщина уходила вместе с ним, потом приходила и опять что-то говорила, и он опять медленно склонял свою большую голову. А над проезжей улицей, вернее мощеным шоссе, ведущим сюда от станции, над базаром, над заваленными фруктами рядами сняло безудержно яркое солнце, оно дробилось и отражалось в сверкающих гроздьях невиданной величины винограда, купалось в журчащих арыках, било прямо в глаза женщинам и мужчинам, стоявшим за прилавками, и они, не жмурясь, расхваливали каждый свой товар, громко выкрикивая непонятные слова.
Между сидящими ходил босоногий, коричневый до черноты мальчик с ведром в руке и кричал: «Ким ичады мыз дай су!» В ведре у него плескалась обыкновенная прозрачная вода, в ней плавал, позванивая о стенки ведра, большой кусок льда.
Оказывается, этот маленький городок в Ферганской долине, куда на двадцатые сутки пути дотащил нас эшелон, издревле славился шелковым промыслом. Знаменитые Ягелланские шелка шли по самой высокой цене на всех рынках Европы и Азии. До войны здесь была шелкомотальная фабрика. А сейчас — говорили — строится большой шелкокомбинат, и сюда свезли оборудование нескольких текстильных предприятий из западных областей России, чтобы делать здесь какую-то особую шелковую ткань. Кому он нужен был сейчас — этот шелк, никто не знал, но люди здесь были нужны, и эшелон прошел мимо Ташкента, даже не останавливаясь. Сказали: едем в Ферганскую долину, в какой-то Ягеллан. Странное название, напоминавшее имя знаменитого мореплавателя, с тех пор звучит у меня в ушах таинственной, волнующей музыкой.
И вот я сижу рядом с бабушкой, на узле с вещами, у входа в Ягелланский базар, над базаром плывет пьянящий аромат фруктов, сизый дымок шашлыка, гомон разноязычных голосов вдоль дороги, от дерева к дереву, натянуты тончайшие шелковые нити, возле них колдуют, что-то связывая почти прозрачными пальцами, чистенькие старички, одетые во все белое, и, глядя на все это, трудно поверить, что где-то сейчас падают бомбы, рушатся дома, умирают люди.
Снова пришел человек в кителе. На этот раз людей отбирала женщина с серебряными зубами. Я видел, как она подходила то к одним, то к другим, тихо говорила что-то, будто мимоходом, и те быстро подхватывали вещи, шли к человеку в сапогах.
Он сосчитал людей — их набралось человек десять, четыре семьи, все из того вагона, где ехала женщина, — и отрицательно покачал головой.
— Нэт, — сказал он. — Мала.
— Как мало! Да вы что, — суетилась женщина. — Десять человек в одну комнату — мало?
— Комнат большой. Целый квартир — не комнат. Такой пятнадцать селить нада.
— Но я же вам говорила, — не унималась женщина, — это все семьи командиров, уж для них-то вы можете сделать исключение…
— Хоп, хоп, — сказал человек в кителе, — только еще одна семья селить нада..
Он поискал глазами среди сидящих и почему-то остановил взгляд на нас с бабушкой. Уж не знаю, почему — то ли вид одинокой старухи, горестно опустившей голову на руки, то ли я, глядевший все время на него, — но что-то побудило его заметить именно нас.
Он подошел к нам и тронул бабушку за плечо.
— Э, онаджон, э, мамаш, вставай, квартир пойдем. Вещи давай.
Он взял в руку небольшой узел, на котором сидела бабушка, и легко закинул его за спину. Он хотел еще взять чемодан, но я сказал, что понесу его сам. Чемодан был почти пустой — мы купили его в Керчи, куда привезли нас после крушения.
Женщина не очень дружелюбно посмотрела на нас с бабушкой, но по дороге пошла рядом с нами и сказала, что нам повезло — благодаря ей мы попадем в хорошую квартиру.
— Очень вам признательны, — вежливо сказала бабушка.
Вскоре женщина ушла вперед, и все они пошли таким быстрым шагом, что мы с бабушкой не поспевали за ними, намного отстали и пришли последними. Мы вошли во двор, огороженный аккуратным зеленым штакетником, прошли по мостику, перекинутому через довольно широкий арык, и вошли внутрь.
Все места были уже заняты, и женщина указала наше место — оно было в первом же углу, сразу возле двери. Но бабушку это не испугало.
— Ну и хорошо, — сказала она, — побольше воздуха будет. И света.
Тут же рядом было окно.
Женщина со своей сестрой и племянником заняла самый дальний, внутренний угол, возле стенного шкафа — в нем раньше, видно, хранились какие-то бумаги. Остальные люди разместились вдоль другой стены.