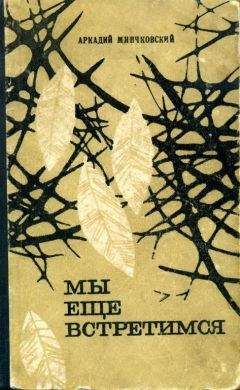— Как прикажете, товарищ полковник. Мне все равно, как вы.
Но комдив тоже хорошо знал своего адъютанта. Внимательно и молча, как впервые, оглядел он его с ног до головы и добродушно сказал:
— Врешь ты все. Хитришь, парень. Вижу, надоело тебе со мной таскаться, планшетку возить. Ладно, возьму себе какого-нибудь старикашку. — Он помолчал, потирая синеющий подбородок, и продолжал: — Тут у нас один из комбатов от Чижина учиться едет. Так тебя вместо него. Я уже приказал. Только тот упросил дать ему в ударе участвовать. Упрямый. Хочет, видно, человек еще раз судьбу испытать. Вот за какого пойдешь. Понял? — Он снова ненадолго умолк и закончил: — Так что уж не обессудь. Побудь со мной еще суток двое, а там и прощай.
Артиллерийская подготовка началась на рассвете.
Еще серело небо. Был час, когда трудно понять, чисто оно или подернуто облачной дымкой. Еще пряталось на востоке солнце, только готовящееся взойти, как дружно, словно молнией, вытянувшейся по земле, вспыхнул весь видимый с высотки горизонт, а затем донесся громоподобный залп. Это разом в указанный час ударили все стянутые к переднему краю орудия.
Больше часа продолжалась артиллерийская подготовка. Небо на западе было сперва раскаленно-красным, потом сделалось фиолетовым, а затем сплошная черная полоса заволокла вражеские позиции.
И сразу же пошли на штурм бомбардировщики. Один за другим, журавлиными треугольниками исчезали они за черной воздушной стеной. Гудело и выло в небе. Дрожала земля.
Был прорван фронт. В образовавшееся горло ринулась пехота, завязался ближний бой. Немцы, испугавшись окружения, оставляли одну за другой линии обороны, а потом, преследуемые переправившимися на правый берег танками, стали стремительно отступать.
Разбитые ящики, патронные коробки, пустые банки из-под консервов, бумажная рвань валялись над развороченными немецкими окопами. Пехота неудержимо рвалась вперед.
К вечеру оперативная группа уже покинула так старательно подготовленный саперами КП и двинулась по отвоеванной земле вслед за полками, которые без отдыха гнали врага.
Был освобожден Таганрог. После яростного сопротивления по всему фронту дрогнули и побежали немцы. Едва успевали догонять их части дивизии Латуница. А там, где удавалось настигнуть, окружали, создавали панику и безжалостно уничтожали.
Бесстрашно носился на своем «виллисе» комдив по полкам. С ним были Ребриков и вызванный из разведроты Клепалкин.
Полковника видели везде. И на командных пунктах полка, и среди передовых частей, и у поспевающих за пехотой артиллеристов. Он появлялся внезапно, хвалил, иногда нещадно ругал, иногда подбадривал встречавшихся по пути солдат.
Порой они оказывались впереди полков. Под свист снарядов влетали в села и хутора, где еще не было наших, но откуда бежали немцы.
Так они въехали в большое, обсаженное тенистыми тополями село. Ни души не оставалось в нем, только, пугливо кудахтая перед машиной, в стороны разбегались куры.
Комдив велел остановиться. Вынул карту.
В этот самый момент из-за тополей, низко стелясь над землей, один за другим вынырнули два «юнкерса» с черными крестами на крыльях. Заметив офицерскую машину среди села, они выпустили пулеметную очередь и пошли на разворот.
До укрытия добежать не успели. Над головой завыли пикирующие «юнкерсы».
— Ложись! — крикнул комдив и сам упал на землю.
Ребриков сразу же навалился на него, закрывая собою тело полковника. Но комдив с силой отшвырнул его в сторону:
— Ты что, очумел, парень?
Ребриков отлетел в выбоину, сделанную колесами тяжелых немецких грузовиков и теперь уже затвердевшую. Послышался тоскливый стон летящей над головой бомбы, затем совсем близко раздался оглушительный взрыв. Вздрогнула и ахнула земля. На спину Ребрикова посыпались тяжелые комки. Затем еще один взрыв где-то поодаль, потом опять, и «юнкерсы» улетели.
Все стихло. Ребриков поднял голову. Горячая пыль и дым застилали ему глаза. Но вот он заметил бегущих в их сторону Клепалкина и шофера. И тогда, оглянувшись, Ребриков увидел полковника. Он лежал чуть поодаль.
Вскочив на ноги, Ребриков кинулся к комдиву.
— Зацепило, — сказал тот. — Пустяки. Давайте скорей машину.
Втроем они усадили его в «виллис». Клепалкин сорвал с себя рубаху, сделал из нее подушку и сунул под гимнастерку полковнику. Прижимая скомканную рубашку к телу комдива, он как мог сдерживал кровь. С другой стороны сел Ребриков. Полковник обнял его правой рукой.
— В медсанбат! — скомандовал Латуниц.
Садовников выжимал из машины все, что мог. «Виллис» летел с бешеной скоростью. Их здо́рово подбрасывало. Ребриков чувствовал, как все больше слабеет тело полковника.
С полного хода остановились возле сортировочной палатки. Выбежали санитары, уложили комдива на носилки, бегом потащили в операционную.
Ребрикова и ребят туда не пустили. Они ждали, не глядя в глаза друг другу, словно кто-то из них был виноват в случившемся. Клепалкин так и не сходил вымыть руки. Кровь уже забурела на его рукаве.
Через полчаса к ним вышла женщина — майор медицинской службы. На ее руке висел только что снятый халат.
Все трое поднялись ей навстречу.
— Мы сделали здесь все, что могли, — сказала она. — Положение серьезное. Задета брюшная полость. Нужна сложная операция. Я связалась с Новочеркасском. Там замечательный хирург, подполковник Роговин. Обещали самолет. — Она помолчала и добавила: — Полковник в сознании, но, пожалуй, ходить к нему вам сейчас не надо.
В тот же день Латуница на самолете отправили в Новочеркасск. Его уложили в один из санитарных футляров, приспособленных на крыльях. Для равновесия кому-то следовало лечь во второй. Ребриков хотел сопровождать комдива, но тот отказался.
— Оставляю тебя здесь с начальником штаба. Через два дня приедешь, доложишь, как движемся. Ну! — и он кивнул головой, приподняв ее с подушки.
Во второй футляр лег Клепалкин.
И только когда печально трещавший самолет с отяжелевшими крыльями поднялся над землей и взял курс на Новочеркасск, Ребриков снял фуражку и помахал удалявшейся машине. Неужели же, подумалось ему, сейчас он в последний раз видел комдива. Затем он надел фуражку и без всякого стеснения, как в детстве, вытер рукавом навернувшиеся слезы.
Затишье кончилось.
В госпиталь стали прибывать раненые, и Нина оставила рояль, возле которого проводила все свободное время в летние месяцы.
Занятия шли успешно. Ее часто слушал доктор Роговин. Находил, что она не теряет попусту времени. Нина и сама чувствовала, как крепнут ее пальцы, как все легче и легче дается ей то, что вначале не получалось.
Но теперь было не до рояля. Четвертый день крышка его пылилась в закрытом на замок клубе. Настали горячие дни, и Нина без устали работала наравне с другими.
Нужно было принимать, мыть, перевязывать раненых, распределять по палатам.
В один из этих дней, вскоре после обеда, когда Нина с санитарками хлопотала возле очередной партии раненых, ее вызвал начальник. Нина направилась к нему в кабинет. Она была уверена, что Семен Яковлевич собирается выговаривать ей за молчавший рояль.
«Какой же неугомонный человек! — думалось Нине. — И теперь…» Но по пути ей сказали, что начальник ждет ее возле операционной. Впрочем, Нину и это не удивило. Подполковник медицинской службы Роговин был начальником, который меньше всего сидел у себя в кабинете.
Роговина она застала старательно моющим руки. Он был в халате и, видимо, готовился к операции, за которые брался только в особо серьезных случаях.
Нина доложила. Подполковник обернулся не сразу, а когда взглянул на нее, Нина поняла по его лицу, что случилось что-то очень серьезное, и сердце ее замерло.
— Садись, — начальник молча указал глазами на белую табуретку. — И спокойно… Только что к нам привезли твоего отца. Положение весьма тяжелое. Я сделаю все, что умею. Но я тоже только смертный… Он знает, что ты здесь, и находится в полном сознании. Я хочу, чтобы вы увиделись до операции. Две минуты, не больше. Понимаешь меня? — Он умолк, оглядывая намытые руки. — М-да. Обещал я тебе встречу, но не думал, что она будет такой. Идем.
Когда они вошли в операционную, лежащий на столе полковник приподнял голову навстречу дочери, и улыбка мелькнула на его смертельно бледном лице. Только знакомым черным блеском горели глаза.
— Ну, вот мы и встретились, — сказал он. — Не послушала, значит, меня.
— Я не могла иначе, — сказала Нина.
— Знаю. Молодец. — Он помолчал и продолжал, превозмогая боль: — Мать не обижай больше. Она теперь одна.
Нина жадно глядела в глаза отцу. Она отлично держалась. Слез не было.