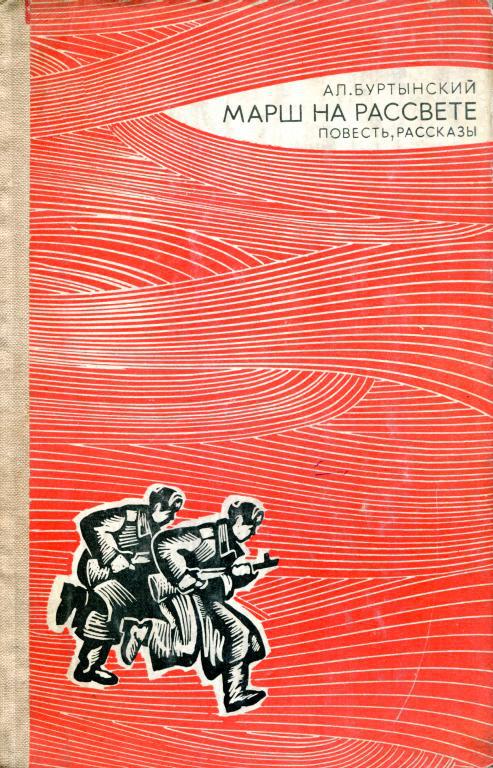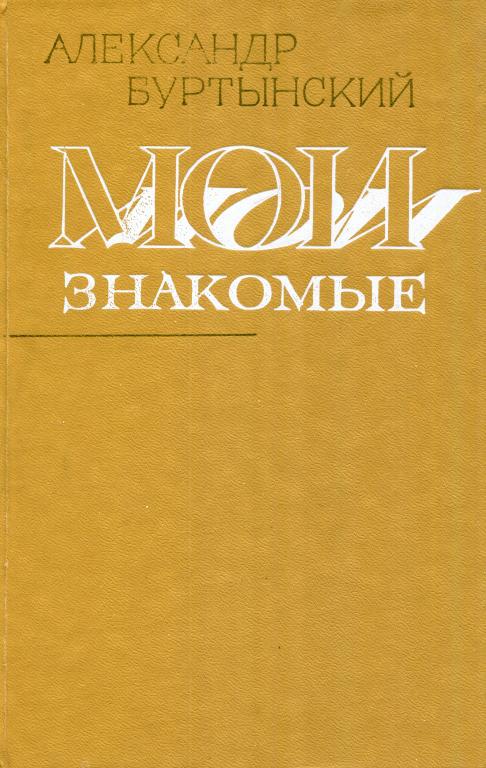невиноватым. Ему ни до чего нет дела. До смерти миллионов тоже! До лагерей и крематориев! Он изучал языки, прежде чем они должны будут исчезнуть с лица земли. Что поделаешь, аллес фюр Дойчланд, надо жить. И кормить фрау…
Сейчас уже все лицо немца стало под цвет носа, и в углах губ запенились пузыри. И рука Елкина, уже не повинуясь ему, тряско сжала в кармане горячую рукоять пистолета.
Лицо Султанова грязно-багровое с невыбритой щетиной окаменело. Всех четверых будто связала натянувшаяся струна. Еще мгновение — и лопнет. Султанов не обрывал ее, но все подступал, оскалясь, белея в скулах:
— А зачем изучал? Чтобы общаться, товарищ лейтенант, общаться с прислугой, с рабами…
Он уже не переводил, а хрипел, сразу на двух языках, и задавая вопрос, и отвечая за пленного. Лицо его пошло красными пятнами. Пленный будто и в самом деле понимал эту свистящую скороговорку Султанова, то ли чувствовал нутром, животным чутьем надвигающийся конец.
— Общаться, чтобы учить повиноваться арийскому национальному чистому духу! Не так ли по-вашему, по-фашистскому? — Немец омертвело, точно заводная кукла, кивнул. — Перед этой особой субстанцией, которой даже Гейне не мог постигнуть, потому что этот дух непостижим. Он дается рождением. Только так. И никто не виноват. Судьба. Дух победителя и дух раба. Вода и огонь. Потому все умри, а дух живи, аллес… — Он вздернул ствол. — А вот мы сейчас понюхаем, какой твой дух! Я тебе покажу реванш…
Пленный рухнул на колени, и одновременно Елкин с силой оттолкнул Султанова. Бахнул в небе выстрел. Султанов сел в снег, шумно дыша. По мерзлым щекам немца текли слезы, оставляя белые следы.
— Гиллер, — сказал Елкин, — отпусти его к чертовой матери! Куда хочет! Марш, вэг. Тебе говорят. Скотина!
Пленный, подхватись, бросился к блиндажу, вздрагивая спиной в ожидании выстрела.
— Сержант, возьмите себя в руки! Без истерик. Выдайте людям сухой паек, старшина. Лида где? Разбуди, пусть приготовится. Через пять минут доложить о боеготовности…
Он зашагал к себе на НП, к надолбе, откуда открывался обзор поймы. Сбоку вынырнула Лида, волоча санитарную сумку, нагнулась, что-то зашептала Королеву на ухо.
— Ну вот, а молчала, — засопел Королев. Уложил ленту, отряхнул ладони. — Тоже скорая помощь, ну-ка, показывай. Ну, ну!
— Да пустяки же, — краснея, сказала Лида. — Я же чувствую, только жжет.
Она стала спиной, подобрав полы шинели вместе с юбкой. Полное округлое бедро нежно белело рядом с корявыми, в черных ссадинах руками сержанта. Они ловко размотали бинт, перехватывая его впереди на животе, затем освободили место пониже спины. Плечи Лидочки вздрогнули. На бинте запламенело пятно.
— Ты… отвернись, — бросила она Елкину.
— Да ты не жмись. Все свои, — пробубнил Королев. — Я тебе в батьки гожусь. Ну вот, все, — донеслось вслед Елкину. — До свадьбы заживет!
Елкина догнал Харчук. Оба подперли стенки окопа, взглядывая друг на друга.
— Ну чего тебе еще? — спросил Елкин, медленно приходя в себя и глядя на фляжку в корявой руке Харчука с синим шрамом поперек. Вдруг почувствовал, как внутри оттаивает.
— Зовсем забув, — сказал Харчук, — шпирт е. Может, опробуете для вспокоения нервов. Допомагае…
Он налил в отвинченный колпачок сизой жидкости.
— В долгу я у тебя, — сказал Елкин, принимая колпачок.
— До чого в городке повна цистерана була, ночью все бралы.
«Не понял? Или щепетилен».
— Не за спирт, за жизнь. Там, у холма. Как же это ты отважился, бога своего не послушал?
— Э, вин-то и не допустыв убывства.
«Ишь ты, хитрюга».
— Ну, будь здоров, Харчук.
— Дай-то бог… И капитана помянем. Какой человек був. Письмо написав, шо я геройски несу службу, а? Николы не забуду…
Елкин выпил одним глотком, обжегся, утерся рукавом. Краем глаза поймал дымок, клубившийся над застывшей фигурой в конце траншеи, сказал:
— Отнеси ему…
— Так я, — прошептал Харчук, — вже… та вин нэ бере. Черный весь. И всэ курит.
Горклый запах табака защекотал ноздри.
Вылко! Как он прошел по траншее, незаметный! Точно вырос из-под земли. В маскхалате поверх шинелишки он казался круглым, похожим на матрешку с нарисованными щелками глаз.
— Товарис лейтенант…
— Вынь трубку.
Он выплюнул ее, словно приросшую к губам, в ладонь, ощущая ее, верно, как часть собственного тела.
— Трубка хоросо, — щелки его на миг исчезли, — вся ноц тепло.
— Сартаков ушел?.. У тебя все в порядке?
— Порядоцек, да!
Елкин нашарил в кармане платок.
— Запалы проверь. Немцев ждем. Как только Сартаков отступит за мост, взрывай. Не махну — тоже взрывай.
— Аха, — сказал Вылка, — мало сто быват. Однако не махнес…
— Ступай.
Он проводил его взглядом. Зашуршали шаги, подошел Султанов, стал докладывать. Елкин вслушивался в короткие фразы, не поднимая глаз. «Один боекомплект. Мало… А Рыба, если и добрался… Но неужели они там не поймут? Немцы прорвутся, пойдут по тылам, не поздоровится…»
— Простите, товарищ лейтенант… за этот случай… Слабость была. Нехорошо.
Он отвернулся.
— Ну все, отошел, и ладно.
Султанов, казалось, не расслышал.
Чудно было, что вот этот пожилой человек запросил прощения — нашел время о чем думать. А может, возраст уже ни при чем, когда всем остается жить поровну. Он и сам, видать, повзрослел за эту ночь, незаметно для себя. Для всех. И для Вадьки, который прилип к стенке окопа, в смертельной на него обиде; точно кусок далекого детства, простоволосый, с нескончаемой сигаретой в зубах.
— Где грань, скажи, пожалуйста? — проговорил Султанов. — Где грань между обезьяной и человеком? — Его подчеркнуто правильная русская речь начинала раздражать. — Где? Та, до которой кричат «хайль» и с сознанием долга продают соседа, а?
— Успокойся, люди станут умней, везде в мире. После такой войны.
— Умнеют к старости. А жизнь коротка. Новые рождаются, из них что хочешь слепить можно.
— Философ.
— Нет, человек.
— Сказал — успокойся! — Он все всматривался в молчащий за рекой лес, белую реку с черной парящей проталиной. Откуда еще пар? Не могла же речка протаять, не время. Или тут реки такие, ранние.
— …Человечность, — сказал Султанов, — это когда не знаешь страха, защищая правоту. Он защищал. Бежал со мной рядом и улыбался. Поэт был. И замечательный. Я это знал, только я. Теперь уже никто не узнает.
Щека Султанова сморщилась, бровки сломались. Он всхлипнул, глядя прямо перед собой на пойму, на черный парящий стрежень, на лес, затаившийся на том берегу.
— Проверьте еще раз готовность. Пулеметы. Как появятся — засекайте огневые точки. Патроны беречь.
Султанов кивнул, не оборачиваясь, пошарил за пазухой, что-то протянул. Красноармейская книжка…
— Вчера еще Кандиди у старшины взял, для этого… русского санитара. Он все бинты, аптечки нам таскал от своего профессора и сегодня старался, в бою.
«Нужно было сделать