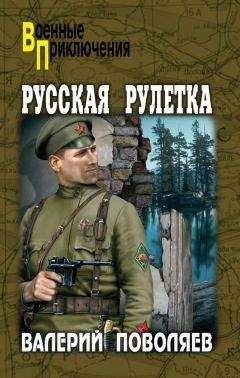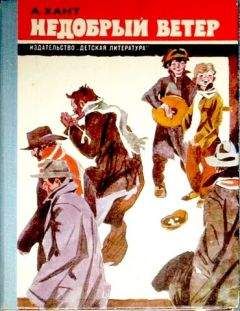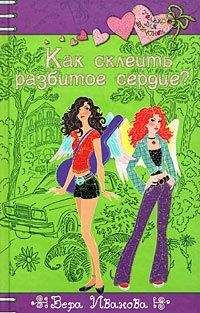Крестов оказался на месте, более того, в кабинете у него сидел солидный дядя в кожаной тужурке, властно поблёскивал стеклышками пенсне: как понял Брин — начальник. Крестов придвинул Брину стул.
— Садись, Саня. Рассказывай!
Брин выразительно покосился на дядю в пенсне — удобно ли при нём? — Крестов не выдержал, прыснул в кулак:
— Это, Саня, один из руководителей Петрогубчека, товарищ Алексеев.
Алексеев протянул руку. Рука у него была тёплая, сухая, пальцы цепкие — приятная рука, определил Брин, такая рука умеет и пистолет держать, и ложку с кашей, и стальное перо «рондо»…
Брин поскрёб затылок одним пальцем, будто деревяшкой, вздохнул и рассказал всё, что услышал от боцмана.
— Нового тут для нас, товарищ, ничего нет, — жёстким тоном произнёс Алексеев, — о «Петроградской боевой организации» мы знаем если не всё, то почти всё… Скоро будем её брать.
— И Тамаева?
— И Тамаева. Но если он ни в чём не виноват, мы его отпустим… Попусту держать не будем.
— Нас с Тамаевым это… — Брин не выдержал, вновь поскрёб дубовым ногтём затылок, — чуть один пограничный командир не застрелил. Мне показалось, что он Тамаича где-то видел и узнал.
— Пограничники это могут, — Алексеев улыбнулся краем рта, — мужики там служат суровые. Но если понадобится защита, обращайтесь к нам, в обиду не дадим, — Алексеев заскрипел кожаной курткой — кожа была новая, необмятая, — поднялся, подал Брину руку. — Мне пора. А вы с Виктором Ильичом посидите ещё немного, чаю хотя бы попейте…
Алексеев, скрипя курткой, ушёл, Брин, недолго думая, тоже поднялся.
— Стоп-стоп-стоп, Саня, — Крестов положил руку на его плечо. — Без чаю я тебя не отпущу.
— Вить, ну чего я буду тебя объедать, обпивать, обирать? — смущённо проговорил Брин.
Крестов придавил его рукою к стулу:
— Сиди! — поспешно метнулся к стальному, с ободранными боками сейфу, где у него, потеснив разные важные папки, стояли три кружки — на целую компанию, закопчённый, видавший виды чайник и коробка со специально приготовленной заваркой.
Чай был превосходный — из сухих корешков с добавлением чаги — берёзового гриба и трав душистых. Вроде бы и неведомых: Брин по запаху мог отличить одну рыбу от другой, даже один сорт коралла от другого, тонкий имел нюх, но специфический, морской, а вот все травы и цветы для него имели один запах, и Брин путал одуванчики с мятой, а крапиву с полынью.
— Бабуня тут одна меня сухотьем снабжает, — сказал Крестов, — большой специалист по этой части, умелая старушенция. Для особо почётных и дорогих гостей я делаю чай «фифти-фифти». Знаешь такой сорт?
— Нет.
— А вот, — Крестов достал из стола маленькую серебряную пачечку, бережно развернул её, отщипнул немного содержимого и кинул в поллитровую банку, где уже настаивался бабкин чай. — Это чай настоящий, — сказал Крестов, — из Сибири товарищи прислали. Китайский.
— Ну? — хмыкнул Брин. — Значит, наши туда ходят?
— Наши не ходят, но кое-кто к нам оттуда ходит, а наши ловят.
Чай Крестова понравился Брину: душистый, тёмный, сладкий. К чаю Крестов выложил два кусочка сахара, попили превосходно. А вот само помещение чека Брину не понравилось, он огляделся, шутливо сжал губы в бантик — тут только шуткой и можно воспользоваться, всерьёз говорить нельзя, заметил:
— Мрачновато что-то!
— Чего мрачновато? — спросил Крестов и, поняв, в чём дело, захохотал: — Ну, ты даёшь!
— Повесил бы что-нибудь на стену, что ли. Картинку, например, или фотокарточку.
— Лубочное изображение царя Николая и его святого папани! — Крестов наклонил голову, помотал ею, показал пальцем за спину Брина, на стену, — Ильич висит, и хватит!
— Ильич висит! — поддел Крестова Брин и употребил его же фразу: — Ну, ты даёшь! Ильич висит — в каком смысле? Вслушайся в слова. Вдумайся!
— Ну! — не понял или не захотел понять Брина Крестов. — Музыка!
Брин заторопился, начал пить чай большими глотками, Крестов тоже заторопился, отхлебнул слишком большой глоток и обжёгся.
— Тьфу, Санёк! И я, глядя на тебя, понёсся, как паровоз.
— У тебя дела и у меня дела…
— Дела подождут! — сказал Крестов, хотя дела не ждали — сообщение, которое показал ему Алексеев, требовало немедленных действий.
Брин прикончил кружку с чаем и хлопнул ладонью по животу:
— Никакое пузо это не выдержит — разошьёшься. Точно по стежку.
Крестов тоже допил чай и очистил стол.
— Я пошёл! — сказал Брин. Перед тем как уйти, выложил из кобуры воблу. — Это тебе от меня.
— Ладно. Спасибо! Кого-нибудь из наших в Петрограде видишь? — Крестов одёрнул матросскую робу. Он не изменил матросским привычкам ни в чём, даже одежду морскую не сбросил с себя, не поменял на кожаную тужурку, ставшую уже традиционной для чека.
— Нет, вот только Тамаича. Всех разбросало. Кто где — одни на этом свете, другие на том.
— Понятно! Ладно, Санёк, — Крестов протянул Брину руку, ухватил цепко, сжал крепко — и тут матросская хватка сохранилась, — ты заходи, если чего. Спасибо тебе за Тамаева — разберёмся с ним, революции сгинуть не дадим. Давай твой пропуск, отмечу!
Через несколько минут Брин был уже на улице, шумно вздохнул. Всё-таки чека — это чека, воздух тут опасный, прежде чем произнести хотя бы одно невинное слово, надо добрый десяток раз поразмышлять: а стоит ли его произносить?
К советской власти Брин, в отличие от боцмана, относился спокойно: ничего худого она ему не сделала, как, собственно, и ничего хорошего, гораздо важнее для него было — не дуть, не мочиться против ветра. Брин не любил и не умел воевать с властью, с любой, причём, какой бы она ни была и какие бы флаги ни вывешивала в окнах: синие, красные, жёлтые, полосатые, в горошек или буро-малиновые, в крапинку, — власть есть власть, её надо уважать и ей подчиняться. Этому правилу Брин не изменял, решил не изменять и в этот раз. Иначе бы он не пришёл в чека.
Вздохнув, Брин с лёгкой душой потопал домой, если, конечно, хлипкую сторожку, похожую на расшатанный скворечник, можно было считать домом.
Старый сторож ждал его.
— Ну что, гулёна, набродился? — просипел он едва слышно: находясь у воды, сторож часто простужал себе горло.
— Набродился, — сказал Брин и повалился спиной на топчан — хотелось спать.
— Может, поешь чего-нибудь?
— Спасибо, ел уже. И чай пил, — сказал Брин и закрыл глаза.
Оставшись один, Крестов убрал кружки (иногда он выставлял стаканы, это зависело от настроения), спрятал коробку с заваркой и некоторое время сидел молча, неподвижно, размышляя, как действовать дальше.
Болела нога, болело плечо — гнилая погода растревожила плохо залеченные раны, в голове звенело, будто кто-то пилил ему череп круглой ржавой пилой, которая давно не была в деле — такими пилами мастеровой люд на передовых капиталистических предприятиях разделывает стволы деревьев на доски, — мозг трещал от информации, которой он обогатился.
Саня Брин оказался мужиком честным, не подлым — всё выложил, что знал, ничего не утаил, а вот боцман… Прогнил боцман. До самого нутра.
Крестов опустил руку под стол, вцепился пальцами в колено, помял его — ноет и ноет, зараза, спасу нет. Когда же прекратит ныть проклятая костяшка? Если бы это была просто костяшка, то не было бы ни боли такой, ни забот головоломных, — а это костяшка сложная, у которой и мозг есть, и хрящи, и мышцы, и сухожилия, и нервные ткани, и лимфатические узлы, и кое-что ещё, что, как разумел Крестов, и названия не имеет… вот зар-раза! Чтобы хоть как-то отвлечься, забыть хотя бы на немного о ноющих ранах, Крестов придвинул к себе бумагу, лежавшую на кипе папок сверху, — оперативное сообщение об обыске, произведённом у некого гражданина Канцельсона, морщась, пробежал глазами по тексту и осуждающе покачал головой.
Канцельсон занимался спекуляцией. Говяжью тушёнку, которую начали производить в России в двенадцатом году, менял на разные кресла французской работы, обитые шёлком, — по одной банке за одно кресло, баш на баш. За шмат сала брал целый мебельный набор для столовой, за половинку сахарной головы — швейную машинку «зингер», за коробку печенья фабрики Эйнема — шерстяной отрез на пальто и так далее — грёб под себя гражданин Канцельсон, сколько мог, не оглядываясь и не морщась, до тех пор грёб, пока им не заинтересовались чекисты.
Продуктов Канцельсон, оказывается, имел столько, что для их вывоза понадобилось восемь подвод.
В бумагу были занесены показания одной старушки, Осетровой Агриппины Ивановны, которая сообщала, что за пачку чая отдала Канцельсону золотую брошь.
«Чай, — мелькнуло в голове у Крестова, — и тут чай… Все помешались на чае, словно в России нет других продуктов, других напитков… А квас, настоенный на ржаных корочках? Или буза из хрена и яблоневых долек?»